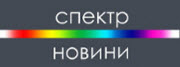Согласно наряду ГУЛАГа и плану перевозки НКВД N 1152, мандельштамовский эшелон подлежал отправке в "Севвостлаг" НКВД — сначала во Владивосток, а оттуда на Колыму. Командировка конвою была выписана по спецнаряду спецотдела НКВД на срок с 7 сентября по 28 октября 1938 года. Поэт, по словам свидетелей, все время лежал, укрывшись с головой одеялом. Казенной пищи не ел и явно страдал психическим расстройством. Преследуемый страхом, что его хотят отравить, он буквально морил себя голодом, не притрагивался к баланде. На остатки от полученного в тюрьме 48-рублевого перевода от жены он просил конвойных купить ему на станциях булку. Когда он ее получал, то разламывал пополам и делился с кем-нибудь из арестантов. До своей половины не дотрагивался, пока не увидит, что тот съел свою долю и с ним ничего не произошло. Тогда садился на койке и с удовольствием ел сам. История — или легенда? — зафиксировала стоянку поезда на станции Партизан, что на главном ходе Транссиба. 11 октября некто Николай Иванушко, ныне пенсионер, живущий в г. Большой Камень Приморского края, а тогда 10-летний пацан, хотел пролезть под вагоном, как вдруг услышал тихий спокойный голос: "Мальчик, мальчик, возьми эту записку!" Лица того мужчины он не разглядел в десятисантиметровую щель-окошко. Поднял брошенный ему заключенным клочок обыкновенной серо-грязноватой бумаги (в такую мыло в магазинах заворачивали). Карандашом корявым почерком там было написано примерно следующее: "Меня везут на Дальний Восток. Я человек видный, пройдут годы, и обо мне вспомнят. Иосиф Мандельштам". Как именно это произошло — непонятно, но вполне возможно, что поэт сумел выбросить записку из коридорного окна, когда шел на оправку.
Пересылка
12 октября 1938 года, в среду, мандельштамовский эшелон прибыл на безлюдную станцию Вторая Речка, в 6 км к северу от тогдашнего Владивостока. Лагерь существовал с 1932 года и имел официальное название: Владперпункт (Владивостокский пересыльный пункт). В обиходе — пересылка, или транзитка. Лагерь был вытянут по долине реки Саперки и занимал около 7 гектаров. Бараки были царством крупных черных клопов и жирных бесцветных вшей. С ними расползались тиф и дизентерия, "высвобождая" нары и лучшие места в бараках. Но ожидаемой эпидемии сыпняка осенью еще не было — она ударила в декабре-январе. Режим был нестрогий: бараки закрывались только на ночь — с 10 вечера (кувалдой по рельсине) до 6 утра. В остальное время броди по своей зоне как хочешь.
Мандельштаму оставалось прожить здесь, на пересылке, 77 дней — ровно 11 недель. Об этой тоненькой, последней полоске его жизни поколениями исследователей выявлено и собрано не так уж и мало свидетельств. Разъяв все эти рассказы, часто путаные, на отдельные факты, попробуем, лавируя между их скудостью и противоречивостью, проплыть по фарватеру судьбы поэта и еще раз посмотреть, чем были заполнены последние дни его жизни.
Первая неделя (13-19 октября)
Пересыльный лагерь в эти дни был чудовищно перенаселен. Новичкам было некуда воткнуться и негде притулиться. Мандельштам с ходу попал в 11-й барак у восточного края лагеря и зоны "политических", на северном склоне Саперной сопки, во втором ряду и самый верхний по склону сопки (примерно в 500 м слева от КПП). В бараке, где содержалось около 600 человек, большинство составляла "пятьдесят восьмая", в основном ленинградцы и москвичи, и эта общность судьбы и среды как-то скрашивала всем им жизнь, а точнее, примиряла с собой.
Мандельштама и других новичков встречал староста. Им был артист одесской эстрады, чемпион-чечеточник Левка Гарбуз (его сценический псевдоним, возможно, Томчинский). Мандельштама он вскоре возненавидел, возможно, за отказ обменять свое кожаное пальто, преследовал его, как мог: переводил на верхние нары, потом снова вниз и т.д. На попытки других заключенных урезонить его Гарбуз всплескивал руками: "Ну что вы за этого придурка вступаетесь?" Одна из "бригад" 11-го барака состояла человек из 20 стариков и инвалидов: ютилась она поначалу под нарами, выше первого ряда им и по поручням вскарабкаться бы не удалось. Их старшим был самый младший по возрасту 32-летний и единственный здоровый — Иван Корнильевич Милютин, инженер-гидравлик, до своего ареста служивший в Наро-Фоминском военном гарнизоне инженером.
Староста подвел к нему Мандельштама и попросил взять его в свою группу. При этом староста произнес: "Это Мандельштам — писатель с мировым именем". Больше он ничего не сказал, ну а технарь Милютин и не стал уточнять: подумаешь, знаменитостей и среди его старичья хватало. Худой, среднего роста, Мандельштам, несмотря на фактическую голодовку, вовсе не впадал в отчаяние или астению. Ему, нервическому, моторному, привыкшему сновать из угла в угол, было в своем бараке тесно. "Быстрый, прыгающий человек... Петушок такой",— говорил о нем санитар Маторин. Выбираясь на улицу, он подбегал к запрещенным зонам, чем вечно раздражал стражу и начальство.
Днем Мандельштам все время куда-то уходил, где-то скитался. Как потом оказалось, он сошелся с какими-то блатарями и ходил к ним на чердак одного из бараков — читать стихи! Их главарь, по фамилии Архангельский, видимо, знал и ценил их еще до ареста. Гонораром служили невесть откуда берущийся белый хлеб и консервы, не вызывавшие у поэта никакой опаски. Мандельштам чувствовал себя в среде блатарей как-то защищенно, читал им стихи, "тискал рОманы" и сочинял для них "веселые", то есть скабрезные, вирши, а может быть — если просили — и матерные частушки.
...В какой-то момент Милютин понял, что в бараке Мандельштам просто симулирует сумасшествие, косит под психа. Это его раздражало, но он не показал и вида: если так легче — пусть. Но однажды Мандельштам прямо спросил Милютина, производит ли он впечатление душевнобольного? Полученный ответ "Нет, не производите" Мандельштама, кажется, огорчил. Он как-то сдулся и сник. Больной или только прикидывающийся больным, но Мандельштам почти ничего не ел. Он всерьез боялся любой приготовленной казенной еды, путал котелки, терял свою хлебную пайку. Боялся он и уколов — любых, отказывался от них: опасался шприцев как орудия физического уничтожения. Но временами он был вполне здравомыслящим и даже осторожным; его речи были всегда остры, точны и умны.
Через два дня, 14 октября (на Покров), прибыл еще один транспорт из Москвы. К вечеру, когда закончилось его оформление, в 11-й барак пришло очередное пополнение. Среди новеньких были и два Юрия — 33-летний поэт-песенник Казарновский и 24-летний студент-юрист Моисеенко. Казарновскому суждено будет стать самым первым серьезным свидетелем последних дней Мандельштама: в Ташкенте в 1944 году того терпеливо выспрашивала о Мандельштаме его вдова. Там, на Второй Речке, Казарновскому не нужно было объяснять, кто такой Мандельштам. В старшем поэте младшего поразило лицо — узкое, худое и изможденное, вместе с тем доброжелательное и, по выражению все того же Маторина, "необозленное". Борода утыкалась в щеки, лоб сливался с широкой залысиной, посередине хохолок. Голос тихий, речь — осторожная и настороженная ко всему и вся. Но над молодежью подшучивал: "Ну и где же, того-этого, ваши невесты, а?"
Наутро подъем был на час-полтора позже положенных шести часов. Позже всех поднимался Мандельштам, садился на нарах, застегивал свою рубашку в крапинку на пуговицы, здоровался с соседями: "Доброе утро". Во время первого завтрака Моисеенко разглядел его: очень худой (про худобу говорил: "Курсак пропал"), мешки под глазами, высокий лоб, выделяющийся нос и глаза — красивые и ясные.
Вторая неделя (20-26 октября)
Постепенно круг мандельштамовских знакомств и дружб расширялся. Были среди них и представители лагерной элиты (или "придурков", если на блатном лексиконе) — такие как раздатчики (Евгений Крепс и Василий Меркулов) или даже санитар, а по совместительству и чертежник шарашки (Дмитрий Маторин). Знакомство и даже дружба с силачом (чемпионом Ленинграда по борьбе) Дмитрием Маториным также заслуживает отдельного разговора: Мандельштам его не боялся, называл Митей, не отказывался с ним есть. У Маторина часто что-то для него было, и Мандельштам всегда бурно благодарил: хватал за руку и целовал ее. Не раз Маторин буквально спасал поэта от людского гнева и выручал из других переделок, в которые его вгонял страх быть отравленным через пищу.
Вспоминает Маторин: "При мне его не били. Был случай, когда Мандельштам бросился к ведру с питьевой водой и стал жадно пить. Был другой случай, когда он схватил пайку до раздела. Что это значит "до раздела"? Когда привозили хлеб (в тюрьме пайка — 350 граммов, здесь 400 с довеском, который прилеплялся к "основе" деревянным штырьком), его раздавали так: один из зэков отворачивался, другой брал в руки пайку и говорил: "Кому?" Тот: "Иван Иванычу!" и т.д. Так вот: Мандельштам схватил пайку, не дождавшись раздела. Его хотели за это бить, но я не дал, сказав, что хотя и не по правилам, но Мандельштам взял не чужую, а свою пайку..." Он был крайне небрежен, Маторин иногда заставлял его мыться и учил тем гигиеническим правилам, которых следовало держаться в лагере: "Ося, делай зарядку — раз! Дели пайку на три части — два!" А Мандельштам кивал и делал все по-своему: чечевичку — черпачок — выпивал залпом, пайку хлебную сгрызал всю сразу, а это хоть и мало, а все же 400 граммов! Маторин: "Ося, сохрани!" Мандельштам: "Митя, украдут же!"
Схожие впечатления у Меркулова: "Распределяя хлеб по баракам, я заметил, что бьют какого-то щуплого маленького человека в коричневом кожаном пальто. Спрашиваю: "За что бьют?" В ответ: "Он тяпнул пайку". Я заговорил с ним и спросил, зачем он украл хлеб. Он ответил, что точно знает, что его хотят отравить, и потому схватил первую попавшуюся пайку в надежде, что в ней нет яду. Кто-то сказал: "Да это сумасшедший Мандельштам!"
С Мандельштама сыпались вши. Пальто он выменял на несколько горстей сахару. Мы собрали для Мандельштама кто что мог: резиновые тапочки, еще что-то. Он тут же продал все это и купил сахару. Период относительного спокойствия сменился у него депрессией. Он прибегал ко мне и умолял, чтобы я помог ему перебраться в другой барак, так как его якобы хотят уничтожить, сделав ему ночью укол с ядом. Он быстро съедал все, был страшно худ, возбужден, много ходил по зоне, постоянно был голоден и таял на глазах..."
Иногда Мандельштам приходил в рабочий барак (так называлось жилище лагерной элиты) и клянчил еду у Крепса: "Вы чемпион каши,— говорил он,— дайте мне немного каши!". Крепс, будущий академик-физиолог, и сам часто зазывал Мандельштама и подкармливал. Ел тот, правда, очень мало.
Немало свидетельств того, что Мандельштам на пересылке, по крайней мере в первые недели, охотно читал стихи и даже сочинял! "Все больше сочинял,— поправляет Маторин.— Стихи не записывал, они у него в голове оседали". Собирался с Маториным поэму о транзитке написать.
Иметь свою бумагу и карандаш в пересылке не разрешалось, но у Мандельштама они были — маленький огрызок карандаша и плотный лист бумаги, сложенный во много раз, наподобие блокнота. Иногда он его вынимал из пиджака, медленно разворачивал, что-то записывал, потом снова сворачивал и прятал обратно в карман. Через какое-то время повторялось то же самое. Как сказал Моисеенко? "Он жил внутри себя". Свидетелей, запомнивших конкретные стихи или их обрывки,— совсем немного. Так, Маторин, охотно слушавший, как Мандельштам читает, запомнил только строчки: "Река Яузная, берега кляузные..."
Матвей Буравлев: "Там, за решеткой, небо голубое, голубое, как твои глаза, здесь сумрак и гнетущая тяжесть..." Меркулов: ""Черная ночь, душный барак, жирные вши" — вот все, что он мог сочинить в лагере". Иногда — темными вечерами, но в свои светлые минуты — Мандельштам читал у себя в бараке или "в гостях" стихи. Пока был душевно здоров, никогда не напрашивался и стихов не навязывал. Читал не всем, а в довольно узком кругу тех, кого уважал... В основном это были москвичи и ленинградцы. По Моисеенко, читок таких в бараке было пять или около того — вечером, после отбоя, на нарах. Руки под голову и, глядя в потолок, читал, в такт кивал головой, закрывал глаза. Ни на кого не смотрел, а между стихотворениями всегда делал паузы.
Но одна читка запомнилась особенно, та, когда поэт прочел стихи о Сталине: читал тихо, чтобы слышали только те, кто был около него. Моисеенко: "Когда Мандельштам бывал в хорошем настроении, он читал нам сонеты Петрарки, сначала по-итальянски, потом переводы Державина, Бальмонта, Брюсова и свои. Он не переводил "любовных" сонетов Петрарки. Его интересовали философские. Иногда он читал Бодлера, Верлена по-французски. Среди заключенных был еще один человек, превосходно знавший французскую литературу,— журналист Борис Николаевич Перелешин, который читал нам Ронсара и других. Он умер от кровавого поноса, попав на Колыму".
Полное безразличие к своей судьбе сочеталось в Мандельштаме с самоиронией. Однажды он пришел к Меркулову в рабочий барак и не терпящим возражения голосом сказал: ""Вы должны мне помочь!" — "Чем?" — "Пойдемте!" Мы подошли к "китайской" зоне... Мандельштам снял с себя все, остался голым и сказал: "Выколотите мое белье от вшей!" Я выколотил. Он сказал: "Когда-нибудь напишут: "Кандидат биологических наук выколачивал вшей у второго после А. Белого поэта"". Я ответил ему: "У вас просто паранойя"".
А вот мандельштамовская автохарактеристика, зафиксированная московским интеллигентом Злотинским, познакомившимся с Мандельштамом на "променаде" вдоль водосточной канавы. Поэт охотно пошел за Злотинским к его друзьям и читал им свои поздние, неизданные стихотворения. Об одном из них, особенно понравившемся слушателям, он сказал: "...Стихи периода воронежской ссылки. Это — прорыв... Куда-то прорыв..." Так приходил он сюда, к благодарным слушателям, еще несколько дней: читая — преображался. Увы, никто за ним не записывал: не было бумаги, зато был страх, опасались обысков.
Шестая неделя (17-23 ноября)
Начиная со второй половины ноября у Мандельштама начало дергаться левое веко, но только тогда, когда он что-то говорил. И вообще он стал быстро сдавать и слабеть. Поведение Мандельштама становилось все более и более вызывающим и асоциальным. Вот случай, описанный Матвеем Буравлевым. Как-то раз он и Дмитрий Федорович Тетюхин лежали в своем бараке на нарах — голодные и умирающие от желания покурить: "...Вдруг к нам подходит человек лет 40 и предлагает пачку махорки в обмен на сахар (утром мы с Дмитрием получили арестантский паек на неделю). Сахар был кусковой, человек взял сахар, с недоверием его осмотрел, полизал и вернул обратно, заявив, что сахар не сладкий и он менять не будет. Мы были возмущены, но махорки не получили. Каково же было наше удивление, когда узнали, что этим человеком оказался поэт О. Мандельштам". Последнее, что поэту Мандельштаму оставалось и чего он раньше себе не позволял,— это ходить по лагерю, подходить к новым, незнакомым людям и предлагать прочесть им свои или чужие стихи в обмен на неказенную еду (или даже казенную, но не его, а их). Невероятно, но позднее "на прилавок" была брошена даже эпиграмма на Сталина! Этот, как ее описывал тот же Буравлев, "шедевр: усищи, сапожищи", за который, собственно, он и попал в лагеря, он предлагал прочесть всего за полпайки! Но никто не соглашался на такой "курс". Безусловно, он был, по меньшей мере, назойливым и настырным. Когда приставал со стихами, его отгоняли ("Вали отсюда!"), не били, но грозились побить.
Седьмая неделя (24-30 ноября)
Состояние Мандельштама все ухудшалось. Он начал распадаться психически, потерял всякую надежду на возможность продолжения жизни. Однажды ночью Мандельштам прибежал к Меркулову в рабочий барак и разбудил его криком: "Мне сейчас сделали укол, отравили!" Он бился в истерике, плакал. Вокруг начали просыпаться, кричать. Меркулов вышел с ним на улицу. Мандельштам успокоился и пошел в свой барак. А назавтра Меркулов обратился к врачу. Осмотрев Мандельштама, тот сказал: "Жить ему недолго. Истощен, нервен, сердце сильно изношено (порок), в общем, не жилец". Впрочем, его взяли в коечно-простынный "санаторий" и продержали около недели. Мандельштам в больнице немного оправился и пришел в себя. И врачи даже устроили его "на работу" — сторожем на склад одежды покойников: за это он получил тулуп и добавочное питание. Но потом, видимо, в преддверии объявления в лагере карантина по сыпняку, его перевели обратно в 11-й барак.
Один из видевших его врачей (Иоганн Миллер) говорил о нем как о классическом пеллагрознике, но крайне истощенном и с нарушенной психикой. Слабея, он стал впадать сначала как бы в сеансы напряженного молчания, а 20 декабря он окончательно слег и практически больше не вставал и почти не говорил. На вопросы о самочувствии отвечал полушепотом: "Слабею". Его спрашивали: "Врача не вызвать?" "Не надо!" — отвечал Мандельштам, не столько словами, сколько шепотом губ и покачиванием головы. Физически слабый, слабеющий, угасающий, он не падал духом и мужественно ждал конца. Лежал с открытыми глазами, левый глаз дергался уже и при молчании. А может быть, он дергался потому, что внутренняя речь, его мысли и, быть может, стихи звучали и не умолкали в нем.
Одиннадцатая неделя (22-27 декабря)
26 декабря, часов примерно в десять-одиннадцать, все наличное население 11-го барака повели в баню, но не на помывку, а на санобработку. Никаких исключений быть не могло: будь ты хоть при смерти... "Пойдемте купаться, Осип Эмильевич",— сказал Иван Никитич Ковалев, сосед по нарам (смиренный пчеловод из Благовещенска, по-отечески опекавший поэта). Мандельштам долго, очень долго собирался, завязывал шнурки, надевал пиджак и вязаную шапочку, складывал в узелок свою вторую рубашку, копался. Медленно сполз с нар, постояв на нижних; медленно прошел к двери барака. Все его терпеливо и молча ждали. Коль скоро это была прожарка, а не помывка, то в бане никакой воды не было — ни горячей, ни холодной. Деревянный пол обдавал таким холодом, на какой, кажется, не способны были ни цемент, ни лед. Когда пришли в раздевалку, все по команде разделись и повесили свою одежду и личные вещи на железные крючки, которые передали работающим зэкам-санитарам (мандельштамовские вещички развесил Ковалев). Крючки вешали на железную стойку, а стойку загоняли в жаропечь, в которой и осуществлялась санобработка — прожарка горячим паром и смертельными для насекомых газами. Обрабатывали и людей: волосяные покровы смачивали какой-то дурно пахнущей жидкостью (вероятно, раствором сулемы).
Одна скамейка на всех: люди сидели на корточках или ходили взад и вперед. Толпа голых, едва стоящих на ногах мужиков, три четверти часа дрожала и мерзла в ожидании своих прожаренных вещей, а Мандельштама от холода аж трясло. Но вот раздался выкрик: "Разбирай одежду!" Дверцы жарокамеры открылись, и прошпаренное, дымящееся, обожженное белье выехало из печи, из которой повалили пар и дым, запахло серой. Прижимая горячие комья к груди, обжигаясь о металлические пуговицы, люди чуть ли не бегом пролетали через пустую баню в другой отсек — в одевалку, чтобы побыстрей облачиться и освободить место для следующих, уже подмерзавших на улице. Некоторые заключенные не выдерживали этой гигиенической пытки. Не выдержал ее и Мандельштам, чей больничный тулуп, заменивший желтое ("эренбурговское") пальто, в прожарку не взяли: кожа в таком случае коробилась и приходила в негодность (тулуп забрали на обработку сулемой). Оставшись совсем без ничего, Мандельштам весь мелко задрожал.
Быть может, инфернальные серные испарения из жарокамеры и стали той последней каплей?.. Когда крикнули разбирать одежду, Мандельштаму стало плохо, и, положив левую руку на сердце, он рухнул на пол. Совсем голый, с побледневшим лицом, без малейших признаков жизни. Подбежали товарищи, тоже голые, сгрудились вокруг него. Затем повернули тело: никаких мышц, одна шкурка — бесформенное, истощенное тело человека, боявшегося съесть свою порцию! Но положить тело было некуда, так как лавки были завалены бельем.
Пришла медсестра в белом халате и со стетоскопом. Спросила: "Кто тут болеет?" Поискала пульс — не нашла, долго слушала сердце... Вынула зеркальце и поднесла к носу, подождала. Кто-то сказал: "Готов", а она сказала: "Накройте хоть чем-нибудь",— и Мандельштама накрыли его одеждой, но только наполовину, до пупка. Пришел начальник смены и прикатил низкую тележку с большими колесами. Побрызгав на нее и на неподвижное тело мутным и густым раствором сулемы с жутким запахом (тифа все еще боялись), Мандельштама положили на тележку и увезли.
Смерть
Но Мандельштам еще не умер тогда. Судьба (и врачи) вновь подарили ему еще один добавочный день, но это уже в самый последний раз и буквально один-единственный день. Его отвезли не в изолятор, а именно в стационар, в двухэтажную больницу, располагавшуюся вдвое ближе больнички для "контриков" в их зоне. Там — на кровати и на простыне — поэт, возможно, пришел в себя и молча пролежал этот подарок-день. Он то открывал, то закрывал глаза, отказывался от еды и время от времени беззвучно шевелил губами. 27 декабря, во вторник, в 12:30 дня, то есть спустя почти сутки после того, как он рухнул на цементный пол, поэта дождалась — или настигла — смерть...
Визит ее удостоверен актом N 1911, составленным врачом (очевидно, дежурным) Кресановым и дежурным медфельдшером, чья фамилия неразборчива. Причина же смерти, согласно акту,— паралич сердца и артериосклероз. По-стариковски изношенное сердце окончательно отказало.
Декабрь 38-го года — это массовая смертность заключенных от сыпного тифа. Тела выносили прямо из барака в палату морга, где снимали отпечатки пальцев и к большому пальцу правой ноги привязывали бирку. Это кусок фанеры со шпагатом, на фанерке химическим карандашом — фамилия, имя, отчество, год рождения, статья и срок. Трупы, уже прошедшие дактилоскопическую сверку, складывали штабелями возле барака или накапливали в ординаторской палатке. Иногда они лежали по три-четыре дня, пока не придет конная повозка, чтобы увезти на "кладбище". ...Однажды начальник лагеря вызвал Маторина, в то время санитара, и велел: "Отнеси жмурика", то есть покойника.
Жмуриком, согласно бирке, оказался Мандельштам. "Но прежде я ему руки поправил. Они были вдоль тела вытянуты, а я хотел их сложить по-христиански. И они легко сложились. Мягкие были. И теплые. Знаете, ведь покойник окостеневает, руки-ноги не гнутся, а здесь... Я напарнику говорю: "Живой будто..." (Прошу за догму не принимать. Мало ли что могло и показаться.) Но факт был: руки сложились легко..." (Маторин).
А дальше за дело брались урки с клещами. Прежде чем покойника похоронить, они обыскивали одежду и вырывали золотые коронки и зубы (а у Мандельштама были золотые коронки, в молодости над ним еще потешались: "Златозуб"!). Снимали с помощью мыла кольца, а если не поддавалось, то отрубали палец. Хоронили же на владивостокской транзитке, разумеется, без гроба — в нательной рубахе, в кальсонах, иногда оборачивали простыней. Мертвые тела опускали в каменный ров, в братскую могилу-траншею, глубиной всего 50-70 см. Затем присыпали землей и притаптывали.