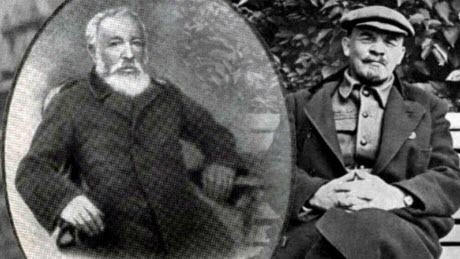Весной 1820 года двое уроженцев Волынской губернии, братья Абель и Израиль Бланки, подали прошение митрополиту Новгородскому, С-Петербургскому, Эстляндскому и Финляндскому о совершении над ними чина святого крещения для присоединения к «Греко-Российской религии» (так в документе). Эту «страшную тайну», известную теперь всем, приказал спрятать в самый секретный сейф секретнейшего партийного актива Сталин. Но мы пока отложим выяснение сути и причин его страхов. Есть в семейной истории вождя мирового пролетариата много более интересного.
Например, что обращение двух молодых провинциалов-иноверцев к столичному митрополиту, члену Синода, было удовлетворено через два дня. Словно никаких других бумаг в канцелярию его высокопреосвещенства в те дни не поступало. Заходи с улицы, пиши прошение, и митрополит всего имперского северо-запада тут как тут к твоим услугам, мигом всё подпишет. Читая документ дальше узнаём не менее удивительные вещи: восприемниками братьев стали граф Апраксин, сенатор Баранов (оба действительные статские советники), его жена и жена действительного статского советника Шварца. Ничего себе парадный эскорт. Тут уже что-то становится на свои места, и расторопность высокого духовного лица получает некоторое объяснение: ходатаями выходцев из «черты оседлости» выступили такие люди, что всё, пожалуй, было оговорено заранее и промедления не предполагало. Братья, названные в честь крёстных отцов Дмитрием и Александром, стали студентами Медико-хирургической Академии, которую с успехом окончили через четыре года. Судьба Дмитрия сложилась трагически: в 1931 году он был убит во время холерного бунта как «немец», в числе прочих врачей-немцев. Александр после этого ушёл в отставку, едва не поломав свою, весьма удачно складывавшуюся карьеру. Но это мы заметим как бы «на полях», поскольку в интересующей нас теме это ужасное событие играет другую роль.
Чем объясняется столь высокое покровительство братьев Бланков, кто и как его обеспечил? Судя по всему, папа, Мойше Бланк. Личность невероятно активная, отмеченная в немалом количестве архивных документов. Мойше был не «простым евреем», а сыном заметного минского чиновника, несколько раз менял место жительства и везде остро конфликтовал с иудейскими общинами. Его неоднократно обвиняли в неблаговидных и даже преступных деяниях, но всякий раз по суду он был оправдан, и при этом ещё писал жалобы на своих единоверцев. Переехав в Житомир, Мойше отдал обоих сыновей учиться не в хедер, а в уездное (русское) училище. Из чего, кроме презрения к обычаям предков, следует, что был он человеком весьма состоятельным и умевшим находить общий язык с имперскими чиновниками (в отличие от соплеменников), от которых зависело получение разрешений на это. Там же, в Житомире, Бланк познакомился с сенатором Барановым, приезжавшим в город по делам еврейского комитета. Решение о переходе в христианство было его личное, но, как он потом объяснял, при жизни очень религиозной жены он не мог его осуществить, и принял крещение только после её смерти в 1835 году. Мойше (позже Дмитрий) был убеждённым сторонником ассимиляции, сыновей воспитывал «по-русски», хотел для них высшего образования и гражданской карьеры, и обратился к сенатору с просьбой о их крещении. Чему тот – с удовольствием или без, этого мы не знаем – способствовал, и крестников, похоже, без попечения в дальнейшем не оставлял.
Возможно, устройство брака Александра с Анной Гроссшопф не обошлось без его участия: именно в доме сенатора и поэта Баранова, куда приглашались любители поэзии и шахмат, Александр мог познакомиться с семьёй своей невесты. Отец Анны, Иоганн Готлиб Гроссшопф (из прибалтийских немцев) служил консультантом Государственной Юстиц-коллегии в чине губернского секретаря. Это всего лишь «благородие», не требующее дворянства (что делало брак равным). Но женат Иоганн был на Анне Карловне Эстед, дочери богатого ювелира шведского происхождения. Положение семьи Гроссшопф в Петербурге было, скажем так, средним; для молодого и перспективного врача без родословной и состояния партия более чем удачная. Лютеранское вероисповедание невесты не стало препятствием: Анна приняла православие и вышла замуж за Александра Бланка в 1829 году. Матерью Ленина стала их четвёртая дочь (пятый ребёнок из шести) Мария.
Александр Бланк вышел в отставку в чине статского советника. Купил имение Кокушкино (500 гектар земли, 40 крестьянских крепостных дворов) и стал помещиком Казанской губернии. Жена его умерла рано, детей помогала воспитывать овдовевшая сестра жены, Екатерина фон Эссен.
Теперь перенесёмся на другой край империи, в Астрахань, где проживал мещанин Николай Васильевич Ульянин, портной, бывший крепостной нижегородского помещика Брехова.
Из того, что нам о нём известно: Николай Ульянин получил вольную после того, как ушёл от барина на оброк. Портняжному делу он мог научиться с молодости, если был дворовым, а не пахотным крестьянином. Что наиболее вероятно, потому что в городском сообществе портных он занимал заметное место: построил большой двухэтажный дом, имел богатых и важных клиентов, позже его вдове городские власти и цех портных неоднократно оказывали материальную помощь, выплачивали пенсию. Только вот женился Николай Васильевич поздно и умер, когда старшему его сыну не исполнилось ещё 15 лет, а младшему, Илье и вовсе было только шесть. Начиналось всё неплохо, но с 1838 года семья осталась без кормильца. Старший Василий не успел перенять ремесло отца, а может, не имел к тому способностей. Но он взял обеспечение семьи на себя и поставил за цель дать младшему брату образование.
Вы будете смеяться, как обычно говорят в таких случаях, но тут уместнее задуматься, если не заплакать: бывший крепостной, женившийся на не знавшей грамоты девице, имел намерение дать своим детям университетское образование. Может, потому и не учил Василия кройке и шитью, а отдал учиться в школу. В своей способности обеспечить семью и будущее детей он не сомневался, и всё шло по плану, но внезапная смерть план поломала. После смерти отца пятнадцатилетний Василий понял, что его образование накрылось без вариантов, но сделал всё, чтобы Илью не постигла та же участь. Он нанимался на любые работы, но при этом оплачивал школу для Ильи. Писал от имени матери прошения в разные учреждения, договаривался с бывшими клиентами (среди них были влиятельные в Астрахани люди) и коллегами отца, прося у них денег и содействия, утрясал проблемы с сословными документами (Илья в отличие от отца и брата уже писался Ульяновым, а не Ульяниным) и добился своего: Илья с отличием окончил гимназию и поступил на физико-математический факультет Казанского университета. Который тоже потом окончил с отличием со степенью кандидата наук – но это уже сам Илья Николаевич, без помощи брата.
Что касается этнического происхождения родителей Ильи Ульянова, то по этой теме нет никаких достоверных, документально подтверждённых сведений. Просто потому, что никто из них не был иноверцем и не переходил в православие. Только их православное вероисповедание фиксировалось во всех документах, и неизвестно, от кого Илье Николаевичу достались то ли калмыцкие, то ли эрзянские, то ли ещё какие-то «неславянские» гены.
Поженились Илья Ульянов и Мария Бланк в 1863 году. Когда Илья Николаевич уже служил гимназическим учителем физики и математики, а Мария Александровна окончила учительские курсы после гимназии. Илья Николаевич успел дослужиться до чина статского советника перед рождением последней дочери, Марии. Это значит, что только Маняша родилась потомственной дворянкой. Но за четыре года до смерти Ульянов был награждён орденом святого Владимира 3-й степени, сообщавшего потомственное дворянство всем остальным детям. Владимир Ульянов-Ленин, таким образом, стал дворянином с одиннадцати лет.
Владимиру не пришлось бы преодолевать вообще никаких препятствий, если бы его брат не был казнён по обвинению в заговоре на цареубийство. Да и после этого, по правде сказать, не пришлось: папа Керенского настоял на награждении выпускника Ульянова золотой медалью по окончанию гимназии, и в университет брата потенциального цареубийцы приняли. Мария Александровна получала приличную пенсию как вдова действительного статского советника и неплохой доход от имения отца. Этих денег хватило до конца её жизни на содержание троих взрослых, нигде не работавших и занимавшихся революционной деятельностью детей с их семьями (только Дмитрий Ильич зарабатывал профессией врача).
Но вернёмся к началу нашего повествования. Чтобы выделить то общее, что объединяет предков этой семьи. О большинстве из них нам известно, что они обладали выдающимися способностями. К наукам, мастерству и умению добиваться поставленной цели. Это позволило им подняться по социальной лестнице в очень непростых условиях сословного государства.
Так что хотел скрыть Сталин?
Еврейское происхождение одного деда на фоне этнического происхождения остальных членов Совнаркома «компроматом» не выглядит, немецко-шведские, польские или тюркские корни тоже нашлись бы почти у каждого. Сталин хотел представить вождя мирового пролетариата исключительно-чистокровно русским? Тоже не очень понятно, зачем грузину, легко называвшему себя «русским человеком», этакий генетический фетишизм. Вероятнее, что Сталину важно было избежать публичного внимания к другим подробностям семейной истории Ульяновых. Во-первых, к тому, что третье поколение выходцев из социальных низов империи могло оказаться в привилегированном сословии - личные качества и амбиции значили больше, чем происхождение. Социальные лифты, хотя со скрипом и проблемами, всё же работали в «тюрьме народов». Во-вторых, хотя это менее очевидно: семья Ульяновых была типичной для «городского класса» России.
Горожане, составлявшие к концу империи 15% от общей численности населения, и были имперскими русскими. Оформлявшимися в городские гражданские сообщества с деловыми межсословными отношениями, в которых сенатор и граф могут становиться поручителями студентов-выкрестов, а уездный голова берётся хлопотать о детях неграмотной вдовы бывшего крепостного. В имперских городах формировался собственно имперский русский народ с гражданским самосознанием и гражданской, а не этнической самоидентификацией.
В отличие от большинства сельских обывателей, остававшихся на просторах имперской метрополии рязанскими-ярославскими, сибиряками или казаками и т.д. Православными. С подозрением воспринимавшими иноверцев, которых в большинстве губернских глубинок никогда не видели или жили с ними в разных деревнях, практически не контактируя непосредственно. С ксенофобией в отношении к любым пришлым или «не тутошним». С готовностью убивать «немцев», лечащих их от холеры, поскольку веры «чужаку» - ни на грош, только ожидание погибели. Эта людская масса в пять шестых населения страны никакого народа не составляла, поскольку идентифицировала себя со своим родом, деревней, приходом, но не с внешним миром с чуждым ей, «ужасным» образом жизни.
Пока эта сельская масса выцеживала из себя наиболее предприимчивых и рисковых, подававшихся на заработки в города, пропорция медленно менялась в пользу города и гражданства. Деревенская идентичность выходцев утрачивалась во втором поколении: отцы обрастали деловыми связями, дети либо встраивались в их профессиональные сообщества, либо находили для себя другие. Третьему поколению обычно обеспечивалось какое-то образование, расширявшее спектр возможностей. Так или иначе, каждый горожанин оказывался встроенным в некий круг общения – свою социальную среду с определённым местом в городской жизни и упорядоченными социальными связями. Как уже было сказано, с межсословными социальными связями: лавочник и сапожник обслуживали разные слои городского общества, из чего следуют «полезные знакомства» и т.д.
Процесс сломался, когда масса хлынула в советские уже города после уничтожения городских сред большевиками. Одним на штыках и с мандатами повезло занять новые начальственные кабинеты и чужие квартиры. Другим, их было большинство, встраиваться стало просто некуда. Разве что, в трудовой коллектив под руководством партийной касты новых хозяев. Городских – гражданских - социальных связей не было ни у тех, ни у других. Представлений о городском образе жизни тоже. Они не зарабатывали на строительство своих домов – такой цели больше не могло быть – им давали квартиры и комнаты в чужих домах. Они не оплачивали работу дворников – «чай, не баре». Они притащили с собой в города свои традиционные представления о быте и бытии, включая пренебрежение к благоустройству за своим порогом и примитивную ксенофобию. Но новая власть решила назвать их русскими, что и было зафиксировано потом паспортизацией.
Третье-четвёртое поколения этих униженных, ограбленных и перегнанных в города крестьян не стало горожанами-гражданами: им негде было получить тот сложный опыт социальной коммуникации, которым создавались городские гражданские сообщества вообще везде в мире, а не только в Российской Империи до большевистского переворота.
Имперских русских граждан до этой катастрофы было в России 15%. Может, не случайно это число нам что-то напоминает.