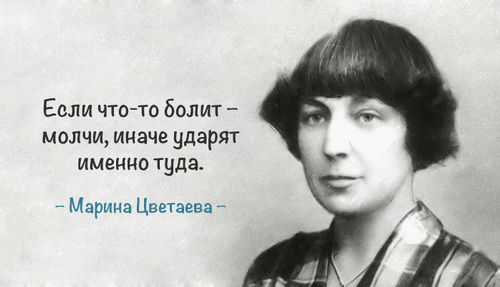Для поэтессы Марины Цветаевой в принципе не существовало такого понятия как «свалить». И не могло существовать. Да, она проживала в Москве, пусть и не в самом – по тогдашним меркам – но всё же центре. Сама Цветаева могла бы сказать «в сердце». В Трёхпрудном переулке, рядом с Патриаршими прудами. Но при этом заграница даже не окружала её, а полноправно присутствовала в её мире, была его частью.
Отец – Иван Цветаев, уважаемый профессор Московского университета, всю свою жизнь положил на создание Музея изобразительных искусств. Искусства имелись в виду заграничные – в первую очередь, античность. Где подворачивалась возможность – пытался разжиться подлинниками, где нет – заказывал копии. Из заграниц, соответственно, не вылезал, был с этими поездками, что называется, на ты. Однажды, например, не задекларировал машинку для стрижки газона. Не по какой-то там профессорской рассеянности, а нарочно. Рассеянность включил бы, если бы поймали. Но повезло – машинку не заметили.
Студенты называли его Johannes Zwetajeff.
Мать – Мария Мейн, польско-немецких корней, пианистка. Тоже постоянные поездки за границу, но, правда, по другой причине – слабое здоровье. Швейцария, Германия, Италия. Возила с собой и ребёнка, Марину. В результате Марина Ивановна не только начала писать стихи в шесть лет, но делала это на трёх языках: русском, французском и немецком.

В московском же образовании присутствовала неизменная «фройляйн» – учительница-немка.
Die stille Strasse: юная листва
Светло шумит, склоняясь над забором,
Дома – во сне… Блестящим детским взором
Глядим наверх, где меркнет синева.
С тупым лицом немецкие слова
Мы вслед за Fräulein повторяем хором,
И воздух тих, загрезивший, в котором
Вечерний колокол поёт едва.
Одну из этих «фройляйн» Марина Ивановна встретит вскоре после революции: «Голодная толчея Охотного ряда. Продают морковь и малиновые трясучки, на картонных поддонниках, мерзкие. Не сдавшиеся – снуют, безнадёжные – слоняются. Вдруг – знакомый затылок: что-то редкое, русое... Опережаю, всматриваюсь: молочные глаза, печальный красноватый клюв – Fraulein. Моя учительница немецкого из моей последней гимназии.
— Guten Tag, Fraulein! – Испуганный взгляд. – «Не узнаете? Цветаева. Из гимназии Брюханенко». И она, озабоченно: «Цветаева? Куда же я Вас посажу?» И, останавливаясь: «Да куда же я Вас посажу?».
— Ну, тётка, проходи, что ли!!
Не вынесли немецкие мозги!
Конечно, при таком бэкграунде понятие «валить» никак не применимо к поэтессе. Не говорим же мы «пора валить», не обнаружив в ближнем магазине свой любимый сок, и направляясь в магазин через дорогу. Не называем же этот отважный поступок эмиграцией.
* * *
Эмиграцией было скорее другое. В 1912 году, в возрасте 19 лет Цветаева выходит замуж за Сергея Эфрона – юношу на год себя моложе. Романтики в нём было выше крыши: публицист, литератор, белогвардейский офицер, агент НКВД. Правда, всё это в ближайшем будущем, но мальчик явно подаёт надежды. Сын народовольцев Дурново, выпускник легендарной Поливановской гимназии, актёр-любитель в студии Таирова, революционер-подпольщик. Общественная деятельность, всегда на грани риска.
А Марина между тем пишет стихи, ходит на заседания литературной группы «Мусагет» при одноимённом издательстве, рожает старшую дочь Ариадну и в 1914 году уходит из семьи. Да не просто уходит, а к поэтессе и переводчице Софье Яковлевне Парнок (литературный псевдоним Андрей Полянин). Вот уж где эмиграция так эмиграция.
«Русская Сафо», как называли её современники, выглядит словно примерная слушательница Бесстужевских курсов (выпускницей которых она в действительности и являлась). В её внешности не читается и даже не угадывается порок. Его там, собственно, и нет. И, похоже, не только во внешности.
Цветаева посвящает своей новой возлюбленной цикл стихотворений «Подруга». И что же? Вместо бешеных страстей мы обнаруживаем элементарный домашний уют, обретённый домашний покой, всё то, что невозможно было получить с мятежным красавцем Эфроном.

Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа? –
Кто побеждён?
Всё передумываю снова,
Всем перемучиваюсь вновь.
В том, для чего не знаю слова,
Была ль любовь?
Кто был охотник? –
– Кто – добыча?
Все дьявольски-наоборот!
Что понял, длительно мурлыча,
Сибирский кот?
В том поединке своеволий
Кто, в чьей руке был только мяч?
Чьё сердце – Ваше ли, моё ли
Летело вскачь?
И всё-таки – что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?

Кстати, раскрученное, благодаря рязановскому фильму и тоже абсолютно невинное стихотворение «Хочу у зеркала, где муть, и сон туманящий…» – тоже из этого сборника.
Таковы уж особенности русской лесбийской любви.
И тем не менее, они были вместе – во всех полагающихся в таких случаях смыслах – два года, с 1914 по 1916 годы. Два года!
После чего Марина Ивановна добропорядочным образом вернулась в семью (читай: вернулась из эмиграции). Вынеся для себя важное: «Любить только женщин (женщине) или только мужчин (мужчине), заведомо исключая обычное обратное – какая жуть! А только женщин (мужчине) или только мужчин (женщине), заведомо исключая необычное родное – какая скука!»
* * *
Первая книга (выпущенная на собственные деньги в восемнадцать лет), повышенный интерес поэтических авторитетов (в первую очередь Брюсова и Волошина), брак, рождение дочери, стрижка налысо, пикантные опыты с Парнок, внутренний драматизм, попытки ходить без очков, приобретение своего дома, рождение второй дочери – всё это в одночасье разбивается в 1917 году о новую, революционную реальность. Вдруг обнаруживается, что молодая, чувственная девица, склонная фраппировать даже богемную публику, самостоятельно не способна наладить свою жизнь вообще никак. О новый быт рушится всё.
Становится понятно, что пора валить. Теперь уже по-настоящему, в привычном всем нам смысле слова.
Начинаются розыски мужа (да, в этом смысле всё зашло довольно далеко). Его находит писатель Илья Эренбург. Оказывается, что Сергей Эфрон вместо свойственных ему авантюрных проделок, тихим образом учится в пражском университете. Найденный муж пишет в Москву своей супруге: «Я живу верой в нашу встречу. Без вас для меня не будет жизни».
Формальности улаживаются на удивление быстро, и менее чем через год, в мае двадцать второго Марина Ивановна вместе со своей первой дочерью Алей пересекает границу молодого советского государства. Второй дочери – Ирины – с ними нет, она совсем недавно умерла от голода в детском приюте, в Кунцево.
Сначала Берлин, затем Прага. Что же Цветаеву ждёт в эмиграции? Ничего нового. Всё то же самое, что было в советской России. Те же люди, те же лица, те же взгляды, те же проблемы. Безденежье. Борьба за то, чтобы издаться. Борьба за гонорар. Бахвальство, чванливость, клевретство, угодничество. Разве что без пресловутой кровожадной «чеки», но зато приправленное ностальгией.
Денег не хватает катастрофически. Цветаева не экономит разве что на пиве. Ещё бы – всё-таки Чехословакия. Пиво в её доме льётся нескончаемым потоком.
— Аля, – спрашивает Марина Ивановна у своей двенадцатилетней дочери, – ты хочешь ещё пива?
— Нет, мама, спасибо, – отвечает рассудительная Аля. – шести кружек хватит. А то я буду совсем пьяная, как Андрей Белый.
Можно сказать, что за семнадцать лет эмиграции у Марины Ивановны было всего два крупных приобретения. Первое – это сын Георгий по кличке Мур, родившийся в 1925 году. Второе – знакомство и дружба с тем самым вечно не просыхающим Андреем Белым, переживающим перманентные творческие и личные неудачи (в 1934 году Цветаева напишет о нём книгу с математически точным названием «Пленный дух»).
Цветаева признаётся: «Никто не может вообразить бедности, в которой мы живём. Мой единственный доход – от того, что я пишу. Мой муж болен и не может работать. Моя дочь зарабатывает гроши, вышивая шляпки. У меня есть сын, ему восемь лет. Мы вчетвером живём на эти деньги. Другими словами, мы медленно умираем от голода».
Так бы оно и тянулось, но любимый муж снова подкладывает под маринину судьбу бомбу замедленного действия. Разоблачённый как агент НКВД и, более того, как человек, причастный к заказному политическому убийству, он вынужден бежать в Москву. Дочь Аля уже там. Цветаева одна – против окончательно настроенной против неё русской писательской тусовки.
Жить на что-то надо. Друг Андрей Белый давно уже умер в Москве. А тут ещё и немецкая оккупация. Цветаева спешно выезжает в СССР.

* * *
Каждый раз, когда мы видим эту ситуацию: эмигрант, некогда убежавший от собственной родины вновь на неё возвращается, у нас неизбежно возникает несколько вопросов. А зачем он это делает? А что было бы, если б остался? А зачем тогда всё это нужно было затевать?
Хорошие вопросы, добрые, участливые. Особенно если учесть, что нам в большинстве случаев известно пусть и не альтернативное, то, во всяком случае, реальное развитие событий. И хочется крикнуть, подобно невоспитанному пятикласснику в сельском кинотеатре: «Стой! Иди назад! Сиди ровно! Время для возвращения ещё не пришло!».
Но герой не слушается, продолжает своё трагическое перемещение по залатанному выгоревшему экрану, а забывшегося пятиклассника выводит за ухо суровый милиционер, которого зовут История.
Так и с Цветаевой. Что выезд из СССР, что въезд в страну, здесь продиктован не стремлением куда-то, а стремлением даже не откуда-то, а из чего-то. Из непонятости, из безденежья, из бытовой безнадёги. Берлин, Прага, а после рождения Мура была ещё Франция. Везде одно и то же.
Конечно, Цветаева не могла оставаться. Россия давала пускай иллюзорный, но шанс.

* * *
И снова дежа вю. Ни денег, ни возможности нормально издаваться, ничего. Нет даже Андрея Белого. Правда, есть пресловутые берёзки, кажется, не должно быть хотя бы ностальгии, но, к сожалению, и она тоже присутствует, теперь, правда, по полюбившейся Праге. Ну и «чека», куда же без неё. Сначала арестовывают мужа, потом дочь.
Одна отрада – Мур. Марина Ивановна души не чает в своём сыне, он же её ненавидит дурной подростковой ненавистью, стесняется – такую нелепую, нищую, преждевременно состарившуюся мать-неудачницу, величайшую русскую поэтессу двадцатого века.
Неспособность сходиться с людьми никуда не делась, а, наоборот, только усилилась. Она жила в кошмарной коммуналке. Сушила над общей плитой штаны Мура. Вода стекала на соседские кастрюльки.
— Да, конечно, – говорила Цветаева, – плита всем нужна, но ведь брюки над плитой высохнут скорее. Я их никуда не буду перевешивать.
Разумеется, соседи мстили как могли. Снимали с плиты её чайник, и ставили свой. Насмехались над ней. А Цветаева плакала. Почему-то она до смерти боялась лифта – всегда поднималась пешком. А в начале войны стала бояться бомбежек. Панически боялась за сына – он бегал по крыше, тушил «зажигалки».
* * *
7 августа 1941 года на Северном речном вокзале литературная Москва провожала Марину Цветаеву и её сына Георгия-Мура в эвакуацию. Литературная Москва была представлена мэтром Борисом Пастернаком и неизвестным юношей лет двадцати пяти. Пастернак спросил, взяла ли Марина еды в дорогу.
— А что, разве на пароходе нет буфета?
— С ума сошла! Какой буфет! – крикнул Пастернак и рванул в ближайший гастроном за бутербродами.
Вдруг обнаружилось, что не подписаны мешки (багаж зачем-то был в мешках). Юноша присел на корточки. На одном вывел: «Елабуга. Литфонд. Цветаева.» А на другом – «Цветаева. Литфонд. Елабуга».
— Вы поэт? – спросила Цветаева.
Юноша зарделся. Да, это был начинающий поэт Виктор Боков, будущий автор песни «Оренбургский пуховый платок». Загружая мешки, он сорвал себе пуговицу. Цветаева бросилась было пришивать. До отправления оставалось несколько минут. Еле отговорили.
Мур вдруг заявил, что он останется. Его чуть ли не силой затолкали на пароход.
Нельзя было представить себе проводы, нелепее, чем эти.

* * *
До самоубийства Цветаевой – можно сказать, до последней её эмиграции, нелепой, трагической и безвозвратной, оставалось меньше месяца. 31 августа того же года Мур уже читал: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
Встретиться, однако же, не удалось. Сергея Эфрона расстреляли 16 октября 1941 года. Мур пошёл на фронт, погиб в 1944 году и похоронен в братской могиле города Браслав Витебской области. Аля – Ариадна Сергеевна Эфрон – осуждённая за шпионаж и под пытками оговорившая собственного отца, была освобождена в 1948 году, а в 1949 году, как ранее осуждённая, сослана на пожизненное поселение в Туруханский край. Реабилитирована в 1955 году. Скончалась в 1975 году в городе Тарусе от обширного инфаркта миокарда.