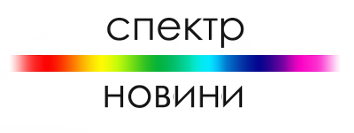Глава 15. Преемник-1999
Часть 1
Как мы уже писали, после дефолта, с начала осени в России начался промышленный рост, который с начала 1999 года стал практически повсеместным. Этот рост был вызван тем, что во-первых, подешевевшая в результате девальвации рубля отечественная продукция начала вытеснять импорт, а во-вторых, начался пусть вялый, но ростом мировых цен на нефть.
Созданный результате тяжелых реформ рынок, наконец, заработал и решил проблему загрузки свободных производственных мощностей – без указов и правительственных решений. В первой половине 1999 года быстрее всего пошли в гору импортозамещающие отрасли – пищевая и автомобильная, а также обслуживающие автопром предприятия шинной, химической и электротехнической промышленности.
Рост промышленного производства увеличил налогооблагаемую базу, что, естественным образом, привело к повышению доходов бюджетов всех уровней. В результате этого правительство смогло погасить свои долги перед пенсионерами и бюджетниками. Это прямо сказалось на платежеспособном спросе населения, который опять же толкал вверх рост производства. Компании, способные расти и развиваться, росли и развивались. Россия преодолела последствия летнего кризиса практически за полгода. Разумеется, все эти успехи в сознании населения связывались с приходом в правительство Примакова.
В январе 1999 года политическая жизнь в стране медленно выходила из новогодних праздников. Тем неожиданнее был первый зловещий звоночек, свидетельствующий о том, что в России далеко не все хорошо и есть масса проблем, которые до поры до времени власти пытались не замечать.
В 11 часов утра, 17 января, в воскресенье, в Москве около посольства США взорвался автомобиль ВАЗ-2106. Автомобиль принадлежал отделу наружного наблюдения ФСБ. Под его днищем было прикреплено взрывное устройство, которое и сработало. В момент взрыва в нем находились офицеры ФСБ Калинин и Богатырев. По данным экспертизы, самодельное взрывное устройство было по мощности эквивалентно 100-150 граммам тротила. Контрразведчики (что удивительно!) успели выскочить из машины.
Как впоследствии сообщил американский посол в России Джеймс Коллинз, незадолго до этого в посольство США несколько раз кто-то звонил и на арабском языке предупреждал о готовящемся взрыве как акте мщения за американские бомбардировки Ирака 16 - 17 декабря (т.н. операция “Лис пустыни”).
Руководство ФСБ тут же засекретило всю информацию об этом происшествии. Первоначально, близкие к следствию анонимные источники высказали версию, что некие злоумышленники подбросили взрывное устройство под днище припаркованной рядом с посольством машины, даже не подозревая, что этот автомобиль принадлежит ФСБ. Но эта версия никакого развития не получила, а больше никаких других версий выдвинуто не было и следствие довольно скоро зашло в тупик. Кроме того, руководство ФСБ официально так и не признало, что этот автомобиль принадлежал их службе.
Нужно заметить, что Россия (вместе с Китаем) выступали резко против бомбардировок Ирана. Особую активность в этом проявил Примаков, который кроме того, что сам считался крупным специалистом по ближневосточной проблематике, к тому же еще был личным другом иракского диктатора Саддама Хуссейна.
Сам по себе теракт породил много вопросов. Во-первых, это был, пожалуй, единственный известный нам теракт такого типа, когда пассажиры автомобиля, в который была заложена бомба, в момент взрыва, без всякого для себя ущерба, успели из него выскочить (!). Во-вторых, непонятно как “злоумышленники” (если таковые вообще имели место) смогли подбросить взрывчатку под автомобиль, который в тот единственный момент, когда они могли это сделать, находился под постоянным присмотром стоящего рядом с ним милиционера и самих сотрудников ФСБ.
Так или иначе, но никаких внятных ответов на эти вопросы власти так и не дали, а единственным результатом этого странного происшествия стало лишь увеличение втрое полицейского оцепления вокруг американского посольства в Москве.
Теперь уже практически официально российские спецслужбы контролировали всех, кто входит и выходит из посольства США в России.
Применительно же к тому, о чем мы писали в предыдущей главе, само собой напрашивается предположение, что, возможно, противоречия между директором ФСБ Путиным и председателем правительства Примаковым были не такими непримиримыми как это хотел бы представить Юмашеву сам Путин.
Через шесть дней, 23 января, на Курском вокзале Москвы опять произошел террористический акт. На этот раз была взорвана граната. В результате этого преступления погиб один человек. Как и в случае со взрывом у американского посольства, расследование, начатое силовыми органами, ни к чему не привело…
Тем временем Генеральная прокуратура продолжала расследование “дела Mabetex”. Еще в ноябре 1998 года Скуратов направил швейцарской прокуратуре письмо с просьбой о правовой помощи, а уже 22 января, по поручению российской прокуратуры, в офисе компании Mabetex в Лугано был проведен обыск, в ходе которого были изъято множество документов.
Все информированные источники (включая сотрудников прокуратуры) однозначно свидетельствовали, что полученных документов более, чем достаточно, чтобы (как минимум) предъявить обвинение Бородину и некоторым его коллегам. Делались также прозрачные намеки и в адрес членов семьи Ельцина.
Но 2 февраля, Генеральный прокурор России Скуратов внезапно написал Ельцину прошение об отставке “по состоянию здоровья”. Вот как это событие прокомментировал контролируемый тогда Березовским телеканал “ОРТ” в вечерней программе “Время”:
“Как сообщила пресс-служба президента, Скуратов направил обращение к Борису Ельцину с просьбой освободить его от занимаемой должности "по состоянию здоровья". Президент, который неожиданно (обратите внимание: неожиданно! - АК) прибыл в Кремль, вопрос об отставке Скуратова рассмотрел в первую очередь.
Сегодня же Борис Ельцин направил обращение в Совет Федерации, в котором уведомил депутатов в том, что он принял отставку генпрокурора. Теперь слово за верхней палатой парламента. В настоящее время Юрий Скуратов находится в Центральной клинической больнице, куда он был госпитализирован сегодня утром. Первый заместитель генерального прокурора Юрий Чайка подтвердил факт госпитализации Скуратова. По его словам, в понедельник вечером Скуратов вызвал его и попросил провести вместо него намеченную на 3 февраля расширенную коллегию Генпрокуратуры. "Юрий Ильич сообщил, что плохо себя чувствует, разболелось сердце и он хочет лечь в больницу", - рассказал Юрий Чайка.
Когда в октябре 95-го Юрий Скуратов был утвержден генеральным прокурором, всем казалось, что его кандидатура - это очень удачная находка президента. Даже извечный оппонент Ельцина коммунист Илюхин соглашался, что Скуратов - оптимальная фигура.
На фоне оскандалившегося Алексея Илюшенко интеллигентный руководитель НИИ проблем законности и правопорядка смотрелся респектабельно. Но ровно через два года после назначения Скуратова президент дал понять ему, что не вполне доволен его работой.
Убийство Влада Листьева стало первым в веренице громких дел, не раскрытых Генпрокуратурой. Впрочем это не мешало Скуратову рапортовать о проделанной работе. С тех пор Скуратов все чаще говорит не о том, что сделано для поимки убийц, а о том, что этому мешает, и как с этим борется Генпрокуратура. Последний пример - убийство Галины Старовойтовой.
Старовойтова, Листьев, Мень, Холодов - список можно продолжать. Череда нераскрытых дел, последние вспышки политического экстремизма, провал попыток вернуть Собчака и Станкевича в Россию, - все это создало фон для отставки Скуратова. Очевидно, в определенный момент президент решил, что фатальная нераскрываемость громких убийств уже не компенсируется репутацией высококлассного юриста. Впрочем, скорее всего Скуратов будет отставлен с формулировкой, о которой он сам просит: по состоянию здоровья.”
Тут сразу видно, что Кремль хочет, чтобы публика четко понимала: никакого “ухудшения состояния здоровья” у Скуратова нет и его отставка происходит по инициативе Ельцина.
Причины этого просты: президент недоволен тем, как идет расследование резонансных убийств и поэтому решил отправить генерального прокурора в отставку.
Справедливости ради, нужно сказать, что расследование резонансных убийств действительно шло очень медленно и малорезультативно. Даже если исполнители были найдены и наказаны, то заказчиков обнаружить, как правило, не удавалось. В защиту Скуратова необходимо отметить, что многие из этих убийств (Холодова, Листьева, Кивелиди и т.д.) были совершены еще до его назначения генеральным прокурором и уже тогда велись тоже ни шатко, ни валко. Последнее же убийство известного политика, депутата Госдумы Галины Старовойтовой было совершено лишь 20 ноября 1998 года. И было бы несправедливо обвинять Скуратова в начале февраля (то есть чуть больше, чем через два месяца) в отсутствии прогресса по этому делу.
Старовойтова была застрелена в Санкт Петербурге, в подъезде дома, в котором жила, среди бела дня, на глазах ее помощника. Она была известным еще с конца 80-х годов деятелем демократического движения, в начале 90-х активно сотрудничала с Ельциным и даже была в тот период его штатным советником. В последнее время она занималась продвижением в Госдуме закона о люстрации и в рамках этой деятельности накопила очень много материала по поводу участия в политике и бизнесе бывших коммунистических аппаратчиков и выходцев из спецслужб.
В конечном итоге, после всех перипетий, в 2019 году, следователь ФСБ (!) предъявил обвинение в заказе на ее убийство известному питерскому мафиозо Владимиру Барсукову (Кумарину), который с 2009 года уже отбывал срок по другим преступлениям.
Характерна формулировка этого обвинения: «Барсуков, будучи осведомленным о желании неустановленного лица прекратить государственную и политическую деятельность депутата Государственной думы, видного политического деятеля, лидера партии «Демократическая Россия» Старовойтовой, активная политическая и государственная деятельность которой вызвала острое неприятие у ее оппонентов, вплоть до ненависти у отдельных из них, совместно с ним принял решение прекратить ее государственную и политическую деятельность путем ее убийства».
Что же это было за “неустановленное лицо” у которого призывы Старовойтовой к люстрации вызывали ненависть - остается только догадываться. Многие наблюдатели, в связи с этим, указывают на Путина. Однако каких-то серьезных доказательств в пользу этой версии предъявлено так никогда и не было. Отметим лишь, что тесное общение окружения Путина с людьми Барсукова (и с ним самим) в 90-е годы года (особенно до переезда Путина из Санкт-Петербурга в Москву) является для более-менее осведомленных петербуржцев секретом Полишинеля.
Но озвученная ОРТ в программе “Время” версия о причинах появления скуратовского заявления была далеко не единственной. В Госдуме и Совете Федерации было общим мнением, что главная причина недовольства Ельцина Скуратовым в том, что тот слишком сблизился с Лужковым и другими критически настроенными к Кремлю губернаторами. И будто бы чрезмерная активность Генпрокуратуры в расследовании дела “Mabetex” связана именно с этим.
Вдобавок, в Генеральной прокуратуре слишком большое влияние приобрел бывший коллега генерала Рохлина по “Движению в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки” (ДПА) депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин (о котором мы уже писали выше). Илюхин и сам в прошлом работал заместителем начальника главного следственного управления Генеральной прокуратуры СССР и поэтому был там своим человеком, причем человеком авторитетным и влиятельным.
Но самое главное, информация о деле “Mabetex” и связи этого дела с семьей Ельцина уже вовсю циркулировала в народе и открыто обсуждалась как в зарубежной, так и в российской прессе. Поэтому практически сразу столичная публика объяснила себе заявление об отставке Скуратова этим делом. Затем, раз и навсегда уже определив истинные причины этой отставки, публика тут же перешла к обсуждению методов, с помощью которых Кремль вынудил Скуратова его написать.
Довольно скоро стало известно о существовании видеопленки, на которой запечатлен секс Скуратова с двумя протитутками. Впоследствии это подтвердил и сам Ельцин (или Юмашев?) в своей книге “Президентский марафон”.
В версии Ельцина-Юмашева это выглядит так: “Первым о порнографической пленке с участием генпрокурора узнал Николай Бордюжа. Военный человек, настоящий пограничник, нетерпимый к любого рода распущенности, он был буквально в шоке. Мне про этот кошмар глава администрации решил пока ничего не говорить. При встрече со Скуратовым Бордюжа сухо сказал ему: в такой ситуации долго думать не стоит. Скуратов покорно написал прошение об отставке…”
Так и осталось невыясненным каким образом эта пленка попала в руки Бордюжи. (Интересно, что и Ельцина этот вопрос тоже не заинтересовал. Возможно, впрочем, что он с самого начала знал откуда она. Тогда отсутствие у него любопытства на этот счет вполне объяснимо).
Искреннее же возмущение Ельцина (“кошмар!”) самим фактом разухабистого прокурорского адюльтера, безусловно, вызывает восхищение (если, правда, при этом не вспоминать его собственное десятилетней давности падение с моста”, которое публика небезосновательно связала с некими его амурными похождениями).
Но не будем слишком придирчивы: нравы политической борьбы всегда были таковы, что попадись такая пленка (про, например, Ельцина) в руки того же Ильюхина, он не преминул бы раздуть из этого максимально громкий скандал. И уж поскольку Ельцин воспринимал Скуратова как явного своего врага, то чего ж удивляться тому, что он использовал выпавший ему шанс на все 100%.
Напомним также, что буквально накануне, в январе, отгремел мега-скандал “Билл Клинтон - Моника Левински” и поэтому история с незадачливым сластолюбцем Скуратовым воспринималась в тот момент публикой почти как “дежа-вю” и комментировалась в том духе, что “все они одним миром мазаны”.
Характерно, что Совет Федерации не стал сразу же рассматривать обращение Ельцина по поводу отставки Скуратова, а отложил его на вторую половину марта (!). Эта пауза позволила Скуратову собраться с силами и продолжить свою деятельность в качестве Генпрокурора России, поскольку формально, без решения Совета Федерации, он им и оставался. Таким образом, на этом этапе расследование дела “ Mabetex” продолжалось полным ходом.
Что касается того, откуда взялась видеозапись со Скуратовым в обществе двух протитуток, то известно лишь, что сделана она была в Москве, на бывшей конспиративной квартире КГБ СССР в доме № 3/9 по улице Большая Полянка, которая в тот момент принадлежала Сурену Егиазаряну, брату известного банкира, совладельца “Уникомбанка” Ашота Егиазаряна. Но не будем забегать вперед и торопить события. Расследование всех деталей сексуальных похождений Скуратова начнется немного позже. И когда мы дойдем до него в нашем повествовании, тогда мы все подробно расскажем.
А в начале февраля с новой силой разгорелись страсти вокруг конфликта в Югославии. Конкретно: в населенном преимущественно албанцами сербском автономном крае Косово, где сепаратистская Армия Освобождения Косово (АОК) уже больше года вела вооруженную борьбу с сербской армией и полицией за отделение Косово от Сербии.
Нужно заметить, что к тому времени Совет Безопасности (СБ) ООН принял уже две резолюции (1160 от 31.03.98 и 1199 от 23.09.98) с требованием к обеим сторонам немедленно прекратить применение оружия и сесть за стол переговоров. Разумеется, что Россия, как постоянный член СБ ООН с правом вето, обе эти резолюции поддержала (иначе они бы не были приняты).
Наконец в городке Рамбуйе недалеко от Парижа, 6 февраля 1999 года началась конференция по урегулированию кризиса в Косово с участием делегаций от обеих конфликтующих сторон (косовских сепаратистов и Сербии). Инициаторами конференции выступили страны-члены т.н. “Контактной группы” (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Россия).
Переговоры закончились провалом: 18 марта косовская делегация подписала соглашение с делегацией США и Великобритании, которое позже получило название “Соглашения Рамбуйе”, а сербская и российская стороны документ не приняли. Это было, пожалуй, впервые, когда Россия так открыто и недвусмысленно выступила против политики США и НАТО.
“Соглашение Рамбуйе” предусматривало, что Косово будет находиться под управлением НАТО как автономный район в составе Югославии (т.е. де-факто в Сербии). Для этого там будет размещено 30 тыс. военнослужащих НАТО для поддержания порядка. Сербская сторона (при поддержке России) выступила резко против размещения войск НАТО на своей (как они считали) территории, согласившись вместо этого лишь на присутствие невооруженных наблюдателей ООН.
Особое возмущение сербов вызвало требование предоставить военнослужащим и сотрудникам НАТО, которые будут размещены в Косово, иммунитет к югославскому (т.е. сербскому) законодательству. Впоследствии известный историк, профессор Кембриджа Кристофер Кларк сказал, что “ условия австро-венгерского ультиматума Сербии 1914 года кажутся мягкими по сравнению с этими требованиями НАТО”.
Ясно, что США и НАТО взяли курс на военное разрешение конфликта. Их можно было понять. К тому времени уже восемь лет на территории бывшей Югославии одна за другой шли войны, которых так или иначе начинала Сербия во главе с ее фактическим диктатором Слободаном Милошевичем.
Раз за разом Милошевич совершал военные преступления. Этнические чистки, разрушительные обстрелы мирных городов, убийства политических противников, коррупция и нарушения элементарных прав человека стали нормой за время его правления. К тому времени весь мир уже знал о расстреле мирных мусульман-боснийцев в Сребренице и варварской осаде хорватского Дубровника. И это далеко не полный перечень всех преступлений режима Милошевича.
То же самое Милошевич собирался повторить и в Косово. Более того: он уже начал это делать. В таких условиях мировое сообщество не могло молча смотреть на то, как в центре Европы будет уничтожена целая этническая группа - косовские албанцы.
Однако и у Москвы, которая поддерживала Белград, тоже были свои аргументы. С точки зрения Кремля АОК - это типичные сепаратисты, которые с оружием в руках ведут борьбу с законной и международно признанной властью и поэтому ни у России, ни у кого-либо другого, кто признает суверенитет и территориальную Сербии, нет другого выхода, как поддерживать позицию Милошевича.
Все это было так похоже на борьбу Ельцина с чеченским сепаратизмом, что у Кремля действительно не было другого выхода, кроме как на этот раз поддержать борьбу Белграда за территориальную целостность Сербии, в которой Косово было лишь “автономным краем” в ее составе, в то время как предыдущие войны Сербия развязывала против таких же как она союзных республик (Словения, Босния и Герцеговина и Хорватия), которые на равных с ней правах образовывали некогда единую Союзную Федеративную Республику Югославия (СФРЮ).
Кремль также не мог игнорировать и пресловутое “славянское братство”, которое, конечно, хоть и является, мягко выражаясь, спорной и спекулятивной идеологией, тем не менее владеет умами огромного количества россиян. И когда Сербия воевала, например, с Боснией, Хорватией или Словенией, то тема “славянского братства” не стояла так остро (скорее это было противостояние православных славян со славянами-католиками и славянами- мусульманами), в то время как в случае с Косово налицо был полный набор русского “патриота”: православные славяне вступили в бой с албанцами-мусульманами.
Справедливости ради нужно сказать, что лидеры косовских албанцев не вызывали (и не могли вызвать) никакой симпатии. Это были полукриминальные (а иногда и откровенно криминальные) персонажи, за которыми тянулся длинный шлейф обвинений в торговле оружием, человеческими органами, живыми людьми и наркотиками.
Достаточно сказать, что их лидер, Хашим Тачи, в настоящее время находится на скамье подсудимых в международном суде в Гааге по обвинению во всех этих преступлениях.
Напомним, в этой связи, что обвинения в подобных уголовных преступлениях (напр. похищение людей, заказные убийства и т.д.) выдвигались и в адрес ряда чеченских полевых командиров.
Нельзя также сбрасывать со счетов и то, что в центре скандального дела “Mabetex”(которое в тот момент было в самом разгаре) стояла фигура албанца Бехджета Пацолли, который позже, в союзе с Хашимом Тачи, стал президентом Республики Косово, а потом долгое время возглавлял ее МИД.
Ведь, в конечном итоге, суть обвинений против Ельцина в рамках этого дела, состояла в том, что Пацолли платил членам его семьи взятки. Поэтому, если бы Ельцин в вопросе косовского урегулирования занял проалбанскую, антисербскую позицию (как этого хотели от него США и НАТО), то нельзя исключить того, что “патриотическая” оппозиция в Госдуме немедленно связала бы это с делом “Mabetex” и отмыться от обвинений в подкупе Ельцину было бы совсем непросто.
В жизни все переплетено и взаимосвязано. И есть какая-то невидимая связь между тем, что генеральный прокурор Швейцарии Карла дель Понте, которая весной 1998 года начала расследование, легшее в основу дела “Mabetex”, уже в августе 1999 года была назначена главным обвинителем Международного трибунала ООН по бывшей Югославии (МТБЮ). И в результате, благодаря, в том числе, и ее усилиям, Слободан Милошевич, Хашим Тачи и многие другие югославские деятели той поры оказался на скамье подсудимых. Но раскрыть тайну этой почти мистической связи, нам, увы, уже не под силу…
Безусловно, в администрации Клинтона не хотели никакой конфронтации с Россией по этому поводу. Но и менять свою позицию под давлением Кремля тоже не собирались. Характерно, что именно к весне 1999 года были приурочено подписание некоторых довольно крупных контрактов и договоров между США и Россией на миллиарды долларов. Не исключено, что по замыслу американцев перспектива получения этих миллиардов должна была остановить Ельцина от открытого выступления против намерений НАТО военной силой принудить Милошевича оставить косовских албанцев в покое.
Можно еще долго перечислять все нюансы тогдашней ситуации вокруг проблемы Косово, но и перечисленного достаточно, чтобы сказать, что Кремль оказался на распутье и выбор правильной позиции в данной ситуации был непростой задачей.
Вскоре стало очевидно, что НАТО под руководством США собираются начать военную операцию против Сербии, суть которой будет состоять в ракетных и авиационных ударах по военной, транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуре страны. И, поскольку Милошевич отказался прекратить военную операцию и вывести свои войска из Косово, то самое позднее в конце марта такой удар по Сербии был уже практически неизбежен.
В этой ситуации днем, 24 марта, состоялся телефонный разговор Ельцина с Клинтоном, в котором Ельцин еще раз настоятельно предлагал американскому президенту отказаться от военной операции в пользу продолжения дипломатического давления на Милошевича.
В ходе этого разговора Клинтон сказал Ельцину: “Я знаю, что вы не поддерживаете нас, но я хочу подчеркнуть: я сделаю все, что только возможно, чтобы не допустить, чтобы из-за наших разногласий пропало все то, чего мы добились и чего нам еще предстоит добиться вместе.”
Ельцин ответил так: “Боюсь, что это не получится… Нам необходимо попытаться спасти хоть что-то из того, чего нам удалось добиться. Но наш народ теперь будет значительно хуже относиться к США и НАТО. Я помню, как трудно было заставить людей и политиков в России по-другому относиться к Западу, к США. Мне это удалось, но теперь все это будет потеряно.”
Ельцин еще раз попросил Клинтона отказаться от бомбардировок «во имя нас с вами, во имя будущего наших стран, во имя безопасности Европы», предлагая встретиться и вместе разработать альтернативный план действий против Слободана Милошевича.
Но в тот же день, 24 марта, около восьми вечера по белградскому времени, НАТО нанесло удары по сербской системе ПВО, пунктам управления и связи югославских вооруженных сил и находящимся на черногорском побережье Адриатического моря радиолокационным станциям. Одновременно ракетным атакам подверглись военный аэродром в нескольких километрах от Белграда и крупные промышленные объекты в городе Панчево, находящемся менее чем в двадцати километрах от столицы.
Позже, вечером того же дня, авиация НАТО подвергла бомбардировкам Белград, Приштину, Ужице, Нови-Сад, Крагуевац, Подгорицу и другие города. Всего было поражено пятьдесят три цели. В большинстве крупных городов Сербии и Черногории впервые после Второй мировой войны было объявлено военное положение.
В это же время премьер России Примаков летел в США на переговоры с американской администрацией и МВФ по поводу тех самых многомиллиардных договоров, о которых мы писали чуть выше. Уже в полете, ему прямо в самолет позвонил вице-президент США Эл Гор и сообщил, что НАТО начало бомбардировки Сербии. Тогда Примаков принял решение развернуть самолет и отменить свою поездку. Вот как газета “Коммерсантъ” прокомментировала этот его маневр:
“15 000 000 000 долларов потеряла Россия благодаря Примакову.
Евгений Примаков уже в самолете, летящем в Вашингтон, отменил свой визит в США. Тем самым премьер-министр России сделал свой выбор — выбор настоящего коммуниста. Большевика, готового полностью пренебречь интересами своей Родины и народа в угоду интернационализму, понятному только ему и бывшим членам КПСС.
Евгений Примаков в Америке должен был договориться о выделении России кредита МВФ почти в $5 млрд. Он должен был добиться от США согласия на реструктуризацию долгов, которые наделали коммунистические правительства СССР. Он должен был подписать с США договоры, принципиально важные для национальной экономики,— разблокировать урановую сделку (это могло принести $4 млрд), увеличить квоты на запуск американских спутников российскими ракетами ($2 млрд), подписать соглашение о кредите для лизинга сельскохозяйственной техники ($1 млрд), подписать соглашение о поставках российской стали на американский рынок. Точную сумму назвать сложно, но после разворота премьерского самолета в небе над северной Атлантикой Россия потеряла никак не меньше $15 млрд.
Вывод один: поддержка близкого Примакову по духу режима Милошевича оказалась для него нужнее и понятнее, чем нужды собственной страны. Все так просто. Только, вернувшись в Москву, премьер-министр потеряет всякое право смотреть в глаза тем старикам, которым он еще осенью обещал полностью выплатить пенсии. Их деньги он отдал сербским полицейским и албанским сепаратистам-террористам, воюющим друг с другом. Здесь, в Москве, ни он, ни его некомпетентные коммунисты-заместители больше не имеют права что-либо говорить о поддержке национальной промышленности. Те деньги, которые российский бизнес мог заработать сам (а не получить с печатного станка правительства и ЦБ), Примаков отдал Милошевичу. Зато Примаков получил огромный политический авторитет — среди пары сотен депутатов-коммунистов. Милошевич, который сдастся через пару дней натовских бомбардировок (как это уже было в Боснии), забудет своего российского брата через несколько часов после возобновления переговоров с Западом — такое уже случалось неоднократно. Зато коммунисты могут теперь вручить главе правительства пожизненный партбилет КПРФ: только истинный коммунист мог продать свой 146 миллионный народ ради братьев по вере, неважно — партийной или духовной.
Для полноты картины Евгению Примакову нужно было не отменять визит в воздухе между Шенноном и Вашингтоном. Ему нужно было завернуть на Кубу и встретиться, к примеру, с Фиделем Кастро. Друзьям всегда найдется о чем поговорить. Другой вопрос, что Примаков больше не может называть себя премьер-министром России, страны, интересы которой он продал.”
Мы в очередной раз вынуждены прибегнуть к обширному цитированию газеты “Коммерсантъ” и для этого у нас опять есть веские причины.
Дело в том, что “Коммерсантъ” в то время без сомнения являлся главной газетой страны, своеобразным символом новой, свободной России. Сотрудники этой газеты всегда гордились тем, что они работают в свободном СМИ, без цензуры и указаний сверху.
И каково же было удивление и сотрудников газеты и ее читателей, когда после публикации статьи «15 000 000 000 долларов потеряла Россия благодаря Примакову» шеф-редактор Издательского Дома «Коммерсантъ» Раф Шакиров публично извинился за нее перед премьером.
За эти извинения он был уволен гендиректором «Ъ» Леонидом Милославским, который, в свою очередь, буквально через неделю был уволен тогдашним владельцем «Ъ» Владимиром Яковлевым.
А 9 августа 1999 года, после официального объявления о покупке ИД «Коммерсантъ» Борисом Березовским, Шакиров был уволен окончательно, а Милославский вернулся на должность гендиректора. И лишь потом выяснилось, что Березовский, через подставных лиц купил эту газету еще в начале лета.
Очевидно, что после вызванного этой публикацией скандала Березовский сделал Яковлеву “предложение, от которого тот не смог отказаться”. Эта довольно скандальная история хорошо иллюстрирует особенности “свободы слова” характерные для эпохи “позднего Ельцина” и т.н. “Семьи”.
В демократических кругах сразу после “разворота на Атлантикой” появилось было мнение, что это решение Примаков принял самостоятельно, без консультаций с Ельциным и даже вопреки его воле. Но 30 марта, в выступая с ежегодным “Посланием к Федеральному собранию”, Ельцин развеял все сомнения на этот счет, четко заявив:
“Югославский кризис еще раз показал обоснованность нашего последовательного неприятия расширения НАТО на Восток. Неприемлемы и попытки НАТО подменить собой ООН, ОБСЕ и навязывать силовые решения в Европе и за ее пределами. От того, как скоро НАТО осознает пагубность силового выбора, сделанного в отношении независимой, никому не угрожающей Югославии, зависит "размораживание" наших отношений с альянсом. С НАТО - агрессором нам не по дороге.
Значительное внимание придаем нормализации российско - американских отношений, возвращению к конструктивному взаимодействию. Оно должно стать важнейшим фактором мировой политики в XXI веке. Мы переживаем сегодня непростой этап отношений, кое-кто прямо провоцирует нас на новую конфронтацию. Трагическая ошибка американского руководства в косовском вопросе не должна обернуться затяжным кризисом в российско - американском партнерстве. Наш общий долг - сохранить все то позитивное, что было накоплено за последние годы. Для сотрудничества создан эффективный механизм, есть солидный опыт совместного урегулирования международных конфликтов и снятия возникающих двусторонних проблем.”
С прежней прозападной политикой было покончено. Россия ясно противопоставила себя и США и НАТО. Все тот же “Коммерсантъ” в тот же день, 30 марта, комментируя позицию Ельцина относительно пресловутого “разворота” констатировал: ”... у премьера появилась возможность пойти навстречу коммунистам. Он был полностью уверен в том, что демонстративный отказ встретиться с американским президентом коммунистам понравится.
И коммунистам действительно понравилось. Они полностью поддержали решение Примакова. Мало того, оказалось, что Примаков оказал услугу и Ельцину лично. Поворот самолета впервые за многие годы позволил главе государства выступить заодно с нижней палатой парламента. А для Кремля сейчас это очень важно, ведь скандал с генеральным прокурором Скуратовым, в котором, судя по всему, замешано ближайшее окружение Ельцина и даже его дочь, сделал импичмент как никогда реальным.”