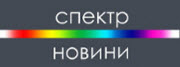С подойником, над которым ещё шумела молочная пена, вошла от коровы хозяйка. Обращаясь ко мне, громко сообщила, что в Киеве сносят памятник Пушкину.
- Гады, - сказал хозяин и повернулся ко мне:
- Что скажешь?
Он пенсионер, работает слесарем-газовщиком, она тоже пенсионерка, тоже работает – медсестрой; женщина крупная, важная, в селе её называют врачом: так себя поставила, часто бывая депутатом, вплоть до областного.
Я сказал, что этого надо было ожидать именно в ходе войны. Одна из боевых операций. Триста лет все памятники русским в Украине ставились по велению или желанию Москвы. Ну, или в порядке выслуживания перед нею, чтобы было что есть, а кому-то и пить с неплохой закусью. То же и с русскими названиями улиц, площадей и населённых пунктов. Западные украинцы говорят: «Чия в мова, того и влада» – чей язык, того и власть. Это они из своего опыта пребывания под разными языками. Продолжая, приходится сказать: от кого памятники, того и власть.
- Сука ты, Толик, – сказала хозяйка беззлобно, не дослушав меня, и так же беззлобно добавила, как о больном. – Мудак.
Я, соглашаясь, кивнул и всё-таки закончил мысль. Лучше всех эту материю понимал Ленин. Ещё только начиналась гражданская война, ещё ничего не было решено, всё висело на волоске, а он уже велел снести к такой-то матери памятники, поставленные при царях. Мало того! На их место велено было сразу же водрузить кумиров будто бы уже окончательно победившего российского пролетариата! Был составлен список… Маркс, Степан Разин и, между прочим, Тарас Шевченко…
- Вот! – закричал хозяин торжествующе.
Это называлось монументальной пропагандой. Так подчёркивалось, что таки да: от кого памятники, от того и власть, а пропаганда – это объяснение массам, почему они теперь должны молиться не на тех, а на этих.
Хозяйка ухватилась за слово «молиться».
- Нас всю жизнь учили молиться на Пушкина! Нас учили, что Пушкин – это… это… А теперь что?! – выкрикнула она.
Я спросил её, когда она последний раз открывала Пушкина, где брала его книгу и что помнит из неё.
- Ну, я же не о себе, – сказала она.
- Она – обо всех, – объяснил хозяин.
Зашёл их сын Костя и, отряхивая с рук сажу у подобия камина, стал излагать своё устное завещание. Ему 27 лет, он вечный студент, уже с залысинами, рационализатор и поэт: чуть ли не с детства упорно переводит на украинский язык Есенина, а как рационализатор в каждый свой приезд из Харькова в село к родителям что-нибудь усовершенствует в камине, делая упор на явно зауженный дымоход, чтобы в доме оставалось меньше дыма и больше тепла.
- Если меня привезут сюда, – говорил он, – а не закопают где-нибудь там, то хоронить меня будете без попа и певчих. Могила должна быть без креста. Да, никакого креста не ставить, а после него – обелиска. И тело положить не в отдельную могилу, а в ту, где бабушка, а под её именем приладить узенькую табличку. На ней указать моё имя и фамилию, годы рождения и смерти. Месяцев не указывать. Имя должно быть без отчества. И ни слова больше.
Это завещание было вызвано тем, что Костя напросился, как говорила его мать, в армию, причём с таким расчётом, чтобы сразу принять участие в боевых действиях, на что в военкомате, правда, услышал грубоватое разъяснение, что служить он будет там, где решит командование, а не там, где ему желательно.
- Так мы тебя и послушали, – сказал отец. – Это уже будет не твоё дело.
- Но это моя воля! – крикнул Костя, не ожидавший такого ответа. – Это моя последняя воля.
- А что люди скажут? – вступила мать. – Что ты у нас был такой придурок, что твоя воля – всё, а мнение людей – для тебя ничто? Нет уж, решать не тебе. Что захотим, то и поставим на твою могилу, и будет, она, как положено, отдельная, места для неё хватит. Сначала на ней будет крест, через год памятник. Не надейся лежать вместе с твоей бабушкой.
Костя ошалело смотрел то на меня, то на старшую сестру Галину. Она давно живёт в Швеции, зарабатывает там уроками музыки, приехала проводить его «в ряды» и передать два мешка вещей, которые ему там понадобятся.
- Костик, – сказала она так, будто они были одни. – Ты это напиши им. Пусть это будет твоё письменное завещание. Твоя действительно последняя воля: хоронить меня так-то и так-то, и не иначе, никакой отсебятины. Напиши! Может, это на них подействует.
- Вы гениальный человек, – сказал я ей об этом её предложении, когда мы вдвоём вышли погулять.
- Тут станешь гениальным, – вздохнула она.
Я думал о том, как она только что смотрела на своих родителей: с холодным, как мне показалось, состраданием. На прогулку она надела материну рабочую телогрейку и отцовскую старую шапку. Всё ей оказалось впору – отнюдь не хрупкой сорокалетней даме. Мать заметила ей, что по селу в таком виде не ходят. Галина сказала, что пойдём мы не по селу, а по земле, которая пока позволяет топать по ней кому как вздумается. Пошли мы, правда, не по селу, а по лесу, подступавшему ко двору, по заснеженной тропинке. На ней уже виднелись следы, говорившие, что она не заминирована или уже была разминирована.
Для образованного человека, русского ли, украинца, долго и деятельно живущего на Западе, большинство его бывших соотечественников, включая родителей, становятся чужими людьми, сознаёт он это или не сознаёт. Он их видит насквозь, сочувствует им, может щедро помогать им, но они для него уже не свои. Они же его, нового, не понимают и не пытаются – они не догадываются, что его всё-таки следовало бы понять для своей же пользы.
Галина, оживившись, вспомнила для меня одного из представителей другого типа, тоже образованного и тоже долго и деятельного живущего на Западе. За таким она даже побывала замужем после того, как развелась со шведом, который в своё время увёз её из Украины, едва позволив ей закончить консерваторию. Этот второй был украинец, почти выдающийся компьютерщик. Вот для него бывшие соотечественники всё-таки оставались и, наверное, будут оставаться до конца, своими. Она убедилась в этом, когда первый раз побывала с ним у его родителей в Тернопольской области. Перед нею там был другой человек – счастливая плоть от плоти того хутора.
Но чем ему приходится платить за эту операцию над собой и что она, собственно, такое, эта операция! Он уверяет себя, что между бывшими советскими людьми и теми же шведами, среди которых он тоже, как рыба в воде, нет пропасти. Для этого он в своём воображении снижает Запад до Украины, до России – до бывшего, короче, совка, остающегося в главном отнюдь-таки не бывшим. Он рисует себе западного человека таким, каким является и его тернополец. В общем, конечно, и целом…
Он не хочет себе верить («Просто не хочет!» – воскликнула Галина), что для западного человека, каким бы просвещённым или тёмным, плохим или хорошим он ни был, личность есть всё, а для совка – ничто. И вот эту-то разницу он как бы приглушает для себя, бессознательно отводит от неё глаза. Больше того: он на этом не останавливается! Он цепляется своим взглядом ко всякой чёрточке, царапине, ко всякому свидетельству того, что и для западного человека личность ну, не такая уж бесспорная ценность – и торжествующе обобщает, обобщает.
В одном разговоре с ним об этом она привела украинскую поговорку: «Похожа свиня на коня – тільки грива не така». – «Ты считаешь нас свиньями?!» – закричал он.
Совок – человек скопа (люблю это слово не меньше, чем «гурт»), коллектива по-ихнему. Для него существуют вещи, которые он, подчиняясь скопу, считает святыми, хотя никакого отношения они уже не имеют ни к нему, ни к скопу. Гуляя, мы перебирали кости родителей Галины. По их жизни, по тому, что касается их подлинных интересов и забот – да плевать им на свои коллективы, на существующую власть точно так же, как когда-то – на «партию и правительство». Не терзают их мысли и о государственных границах, об отечестве, о его достоинстве, о далёком прошлом – чем оно дальше, тем славнее, о предках с их верованиями и правилами – тоже чем они старее, тем бесспорнее. Но когда дело коснётся чего-то такого, как снос Пушкина, ни одной строки которого они не знают, или чью исполнить волю: последнюю – сына или извечную – «людей», о, тут она в них и даст себя знать, старина, архаика, хуторянство!
Мы оставили под вопросом, как долго это будет определять судьбу пространства, которое мы топчем – кто-то из нас, может быть, в последний раз.
… Привычку переводить Есенина Костик перенял у своего дальнего родственника Чумака, ветеринара, профессора Харьковского ветинститута, кандидата наук, которому поэзия помешала, как он говорил, защитить докторскую. Стихи – свои и переводы есенинских – он десятилетиями читал на институтских вечерах, на разных вечеринках, а также в клубе родного села, когда приезжал оживлять впечатления детства от Ворсклы, Лысой горы и прочего. Перед самым выходом на сцену быстро надевал, а после возвращения так же быстро снимал, особую кофту голубоватого цвета - что-то вроде толстого короткого халата. Один раз в родном клубе его слушали два с половиной часа, и никто не ушёл, как подчёркивал он, вспоминая этот случай.
«Віку мій! Чи я наснив тебе?», – так Костик, в свою очередь, перевёл «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?», но оценить его перевод Чумак уже не смог – к тому времени умер. Фамилия здесь подлинная.
Не забуду, как отец Костика торжествующе закричал: «Вот!», когда я сказал, что в «монументном» списке 1918 года Украина, и только, кажется, она одна, кроме России и Запада, была представлена Тарасом Шевченко. Понимай тебя, Васёк, кто как хочет. Чтобы оставить в Киеве Пушкина, ты не пожалеешь головы, пусть и чужой, но и при имени Тараса из ленинских уст с тобой творится то, что я увидел.
Я тогда не вспомнил: там от Украины был ещё Григорий Сковорода.