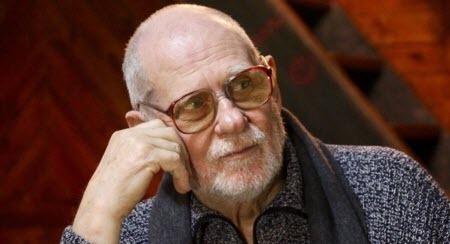В 22 года Иван Мороз закончил пединститут, три года отработал учителем, потом сделал перерыв почти на четверть века. Эти годы он провёл бригадиром бродячей артели строителей из семи человек. Все были его односельчане. Артель нанималась на стройки Украины, Москвы, Прибалтики, выполняла бетонные работы; мужики неплохо зарабатывали, семьи не жаловались.
Иван, чтобы в селе не считали его неудачником, купил дорогущую легковушку, которая все эти годы простояла в гараже. Простояла, говорит он, без движения, как будто именно там, в гараже, она должна была двигаться.
Численный состав артели образовался стихийно. Иван заметил, что шестеро почему-то мало, а восьмеро – уже много и остановился на семи. Он, оказывается не знал, что это открытие нашего земляка Антона Макаренко, того самого, который служил в 20-30 годы прошлого века начальником колонии беспризорников под Харьковом и написал о своём опыте знаменитую «Педагогическую поэму». «Я пришёл к выводу, – писал он, – что оптимальный состав отряда – семь человек. Почему именно семь, а не шесть или восемь, не знаю».
Объяснение наука нашла много лет спустя.
Когда началась война, артель Ивана была в Литве, откуда сразу же вернулась на родину. Четверо, включая Ивана, пошли в армию. Один вскоре погиб, а Иван после ранения не нашёл, говорит, ничего лучшего, как осчастливить собой родную школу. Ему понравилось, когда я сказал, что его давний уход из неё не был, по-моему, уходом из педагогики как таковой. Ведь будучи старшим в своей артели, он просто вынужден был быть педагогом. Такова участь всякого начальника, особенно маленького, когда между ним и подчинёнными нет никакой прокладки.
Оказавшись в учительской как новый член коллектива, он вскоре попытался, было, маленько порассуждать о педагогике. Интереснейшая же, мол, тема! Борьба двух вечных подходов к детям наблюдается во всём мире. Один подход – казарменный, другой – демократический, даже либеральный.
Ему захотелось сопоставить эти подходы на живом, так сказать, материале. Он предполагал «чисто теоретически», что оба подхода здесь должны быть представлены живыми носителями. Вернее, носительницами, потому что мужским полом в этой учительской до него не пахло. Кто-то создан для воспитательно-учебной работы в казарме, кто-то – на воле. В каждом подходе есть и плюсы, и минусы. Многое также зависит от того, с каким человеческим материалом приходится иметь дело. Ребёнок, которого привели в школу из семейной казармы, и ребёнок из свободного семейного мира нуждаются в разных методиках. Как их совмещать в одном классе?
Он вздохнул:
- Об этом я, дурак, и попробовал заговорить в учительской.
Это меня удивило. Я-то уже в классе пятом точно знал, что такой учительской, где могло бы говориться о чём-то таком, не может быть, потому что не может быть никогда. Там обсуждается то, что и возле каждого колодца: что почём, кто как из отсутствующих оскандалился, сколько времени и на каком огне держать то и это…
Я представил себе его в той женской учительской – высокого, с навсегда задубелым носатым лицом, со спокойными движениями, и пошутил насчёт такого воспитательного средства, как затрещина. Испокон веков известно, что она может быть простым, вполне человечным! лечебным средством. Как впавшую в самоубийственную истерику женщину можно спасти пощёчиной, так и ребёнка, который уже и рад бы, да не может управиться с собой. Матери это знают.
- Да что вы такое говорите! – опять вздохнул он. – Какая в наше время затрещина?! Об этом не положено даже думать. Юный гражданин, уже когда идёт первый раз в первый класс, знает, что училка в его руках. Мороженым его не корми – дай поставить её на место.
В чём-в чём, а в этом я убеждаюсь на каждом шагу. Учителя боятся детей! И детям это нравится. Как будто они долго находились в рабстве, а тут пришла свобода, и они от неё ошалели, как многие бывшие крепостные в России и чернокожие рабы в Америке полтораста с лишним лет назад, когда их, наконец, освободили. Причем, освободили одновременно: и в Америке, и в России. Есть тут о чём иногда подумать от нечего делать.
Многие бывшие крепостники и рабовладельцы, да и не только они, не совсем на пустом месте впали тогда в яростную тоску о благообразном прошлом, стали голосить об упадке нравов, о лихорадке чистогана, вдруг охватившем всех и вся. Это поразительно, но не удивительно, если разделить оба понятия. Лучшие люди России чего стали требовать неизвестно от кого? Думаете, упорядочения свободного предпринимательства, например? Да нет, великой идеи, которая бы всех (всех – это обязательно!) объединила и подвигла на красивую жизнь во Христе и во главе всего мира.
Одной попытки разговора о работе Ивану хватило, чтобы не только понять, что в учительской его считают дураком, но и согласиться с этим диагнозом. Какой, в самом деле, вменяемый человек осмелится признаться, что его что-то интересует в обязанностях, за исполнение которых ему платят меньше, чем вырабатывает иная продавщица в сельмаге? Это даже в том случае, если его что-то и в самом деле интересует.
Недолго думая, он второй и теперь уже наверняка последний раз оставил школу и стал преподавателем-частником. История, география, английский язык – вплоть, смеётся, до физкультуры. Материально никак не хуже, чем в школе, а морально совсем хорошо – и от свободы, и от педагогических результатов.
И… в этой жизни не соскучишься: те самые училки, которые, если называть вещи своими именами, выжили его из школы, стали посылать к нему собственных детей!
- Что-то, значит, всё-таки соображают, стервы! – смеюсь я.
- Да всё они соображают.
Уроки он даёт не только один на один – есть у него и группа, и, как вы можете догадаться, в ней семь человек. Составилась она сама собой: когда число учеников достигло семи, он прекратил набор.
У кого-то, может быть, возникнет вопрос, применяет ли Иван Мороз, став частником, такой метод воспитания детей, как затрещина. Отвечаю: нет и нет! Нет нужды. Те мальчишки, да и девчонки, которые в школе нуждаются в настоящей порке, явившись к нему, теперь частнику, на урок, становятся как шёлковые, и дело, говорит он, не в том, что он такой уж с ними строгий или интересный для них, или они ему сочувствуют, глядя на обрубок его правой руки. Они понимают, что это – не школа, что это дело частное, не для галочки, что оно с их стороны, к тому же, платное. Откуда у них это понимание? Это такая же загадка, как и оптимальный размер всякой первичной ячейки. От природы – откуда!
Ну, и последнее, о чём мы в связи с этим рассуждаем. Безвыходных положений не бывает ни в каком масштабе: ни во всемирном, ни в ахтырском. Кто хочет жить по-человечески, чего-то добиваться если не для себя, то для своих детей, тот найдёт способ. Школьное дело, если взять его как пример, не приходит в упадок. Оно преобразуется. Оно становится всё более частным в том или ином виде, то есть, обретает норму – неожиданную, для многих почти незаметную, как и положено всякой большой перемене. Происходит естественное разделение на тех, кто чего-то хочет, и на тех, кто не хочет ничего.