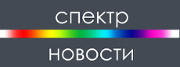Осевая экономика ЕС, немецкая, переживает не просто рецессию, которая длится уже третий год к ряду, но фактически глубокий структурный кризис, в основе которого лежит, прежде всего, кризис базовой идеологии общества.
Идеологии, которая формирует ключевые политико-экономические общественные отношения.
После Второй мировой войны, именно модель "рейнского капитализма" привела и Германию, и Скандинавию, к нынешнему пику развития.
Тогдашнюю экономическую модель ФРГ можно было назвать термином "социальный либерализм", который предусматривает, с одной стороны - обеспечение максимальных экономических свобод и раскрепощение духа предпринимательства, а с другой - наличие мощного блока социального обеспечения населения, гарантированного государством.
Концепция социально-рыночной экономики впервые была сформулирована, как это ни парадоксально, в тяжелые послевоенные годы немецким экономистом Альфредом Мюллер-Армаком.
Как оказалось, даже в трудные времена можно успешно формулировать "миксовые" идеи, представляющие собой смесь рыночных и государственных механизмов влияния на свободный рынок.
Согласно концепции Мюллер-Армака ни государство, ни частный бизнес не должны обладать монополией на принятие глобальных решений, и в своей конечной цели все они должны служить простым людям и их интересам.
Эта теория стала антиподом доктрине Laissez-faire, или "позвольте делать", в которой роль государства сводится к минимуму (прекрасно описана в книге Айн Рэнд "Атлант расправил плечи").
Можно выделить базовые принципы немецкой социально-рыночной модели экономики:
- стремление к полной занятости;
- социальная справедливость;
- защита свободной конкуренции путем ограничения монополий;
- всемерная поддержка постоянного экономического роста;
- стимулирование экспорта и стабильная национальная валюта.
Но на практике главный системообразующий элемент этой модели - наличие консенсуса между государством, бизнесом и наемными работниками относительно перераспределения национального продукта.
Именно наличием/отсутствием этого консенсуса и объяснялось прежде богатство/бедность различных стран и уровень теневой экономики в них.
Но не бывает вечных моделей развития, равно как и не бывает "вечных двигателей".
Как известно, процесс внутреннего трения явился ключевым фактором несостоятельности модели perpetuum mobile.
Точно также и "вечный двигатель" социально-рыночной экономики невозможен по причине нарастания процесса "социального трения" виде старения населения, пропорционального старению увеличения социальных расходов государства и снижению общей эффективности экономики, включая и критическое падение показателя предельной отдачи капитала.
Сейчас средний возраст населения в Германии составляет 46 лет, при том, что еще в 1995 году он был ниже 40 лет.
Частично данная проблема решается трудовой миграцией, но лишь отчасти. Мигранты не могут в краткосрочной перспективе заменить граждан страны, а их инклюзия в немецкое общество - достаточно длительный и сложный процесс.
Европа в целом сейчас постепенно перезагружается на платформе ценностей нового неолиберального атеистического Антропоса, религией которого становится не ВЕРА, а УВЕРЕННОСТЬ в биморфической свободе, трансгендерстве, зеленом курсе и гедонизме.
Как написал Хосе Ортега-и-Гассет в своей работе "Восстание масс" про суть нового европейства:
«Мы чувствуем, что внезапно стали одинокими, что мертвые умерли всерьёз, навсегда и больше не могут нам помочь.
Следы духовной традиции стёрлись.
Все примеры, образцы, эталоны бесполезны.
Все проблемы, будь то в искусстве, науке или политике, мы должны решать только в настоящем, без участия прошлого".
Европа утратила то, что было всегда ее силой - ТРАДИЦИЮ.
Так как Медиевализм или представление о Средних веках в культуре последующих эпох - это уже не питающая традиция, а историческая оппозиция нынешней эпохи, в отличие от того же Китая, где традиция продолжает быть "живой".
Испанский философ пишет:
"Мир сегодня глубоко деморализован, и один из симптомов этого — разнузданный бунт масс.... с Европой происходит что-то странное и нездоровое. Европейские заповеди утратили силу, а других пока что не видно....
... Впервые споткнувшись о национальные границы, европеец ощущает, насколько его экономические, политические, интеллектуальные запросы — то есть его жизненные возможности, жизненный размах — несоизмеримы с тем коллективным телом, в котором они томятся ....
Те единства, что до сих пор именовались нациями, приблизительно век назад достигли своего апогея.
С ними нечего больше делать, кроме одного — преодолеть их».
И если Хатингтон писал о "столкновении цивилизаций", то Шпенглер в "Закате Европы" пишет о "столкновении культуры и цивилизации", при том, что двигателем истории является как раз культура.
Шпеглер пишет о том, что отныне судьба Европы - это не внутреннее развитие в виде доминирующей культуры, а конвульсивные попытки территориального расширения, но и они вскоре прекратятся:
"Мы не в состоянии изменить того факта, что мы родились во время начинающейся зимы, в эпоху цивилизации, а не в полдень зрелой культуры, в эпоху Фидия или Моцарта.
Крайне важно уяснить себе это положение, эту судьбу и понять, что относительно нее можно ошибаться, но избежать ее нельзя.
Кто этого не понял, тот утрачивает всякое значение среди людей своего поколения.
Такой человек остается дураком, шарлатаном или педантом....
..... Для западноевропейского человека уже нечего ожидать великой живописи или музыки. Его архитектонические возможности вот уже сто лет как исчерпаны....
.... Современность есть фаза цивилизации, а не культуры.
Этот факт отсекает целый ряд жизненных содержаний как невозможных.
Мы можем скорбеть об этом и облекать свою скорбь в наряд пессимистической философии или лирики – так оно впредь и будет, – но изменить это мы не в состоянии".
Современную фазу развития ЕС в одной из своих статей я назвал "затухающе - гормональной", подразумевая под этим термином общее старение населения и затухание глубинного драйва развития.
На эту же перспективу намекал и Шпенглер:
"Быть может, понятия рождения, смерти, юности, старости, продолжительности жизни, лежащие в основе всего органического, имеют в отношении истории еще никем не раскрытый строгий смысл?"
Как бы то ни было, но новая "атеистическая религия" Европы - это "зеленый курс", который с помощью высоких цен на энергию формирует общий тренд деиндустриализации и трансгендерная модель общества, которая усиливает общий тренд на депопуляцию.
Да, в рамках третьего демографического перехода есть и масса иных факторов сокращения рождаемости, но трансгендерная модель несомненно усиливает данную тенденцию.
Точно также как атеистический гедонизм разрушает модель архаичной, патриархальной семьи и замедляет процесс возобновления популяции европейцев, когда рост численности населения поддерживается лишь потоком мигрантов.
В этих условиях, социальная нагрузка растет, а предельная отдача капитала/инвестиций, наоборот, падает. Наступает системный кризис проектности как проявление кризиса воук-идеологии.
В этих условиях ЕС может постулировать новую индустриализацию и даже возврат в век "угля и стали", вот только возврат этот происходит и без угля, и без стали.
ЕС нужно сокращать социальные расходы, минимизировать уровень бюрократии и понижать планку базовых налогов, но как это сделать без Великого Социального Шока?
И как это сделать в условиях постоянного демократического вотума доверия, не потеряв власть на первом же шаге реформ?
Но главная проблема - это отсутствие новой идеологии роста, так как на воук-идеологии динамичное развитие априори невозможно.
Зато возможно состояние геополитического анабиоза и гомеостаза. Но для этого необходимо иметь "зонтик безопасности" со стороны США, а его уже в прежнем формате не будет.
Европа как "лавка древности" - это слишком большая цель для других, более агрессивных геополитических игроков, чтобы они смогли "промазать".
Увеличение военных расходов в ЕС лишь усилит этот кризис, так как такое механическое наращивание ничего не меняет по сути.
США, напротив, пытаются на платформе Консервативного Антропоса, спасти единство культуры и цивилизации в рамках своего национального проекта развития.
Трамп пытается запустить новую модель "трампономики", которая в общих чертах напоминает модель "рейганомики" 80-х годов прошлого века.
Все то же снижение налогов, дерегуляция, привлечение инвестиций в промышленное развития, дешевый и доступный кредит для бизнеса и населения, фактор низких цен на энергоресуры.
Плюс сильный протекционизм. Вспомним фразу Рейгана: "каждый напечатанный доллар должен найти американской товар".
И победа в глобальном противостоянии: тогда с СССР, сейчас - с Китаем.
Но в 80-х годах в США наблюдалась эпоха "великой умеренности" (бюджетной, демографической, макрофинансовой).
Сам термин «Великой умеренности» появился в работах американских экономистов Джеймса Стока и Марка Уотсона. Он означает снижение в США макроэкономической волатильности в середине 80-х годов прошлого века.
Как написал нобелевский лауреат Пол Кругман:
"Иногда я шучу, что между Европой и США идет соревнование за то, кто может принять худшие антикризисные меры; Европа сейчас выигрывает, но США отстает ненамного.
Было бы приятно считать, что эти проблемы имеют временный характер, возможно, они таковыми и являются.
Но стабильность «Великой умеренности», как мы сейчас понимаем, была основана на увеличивающемся долге населения и на относительно быстром росте населения трудоспособного возраста; ни одно из этих условий не вернется, и практически нет признаков поворота в экономической политике".
Уровень закредитованности населения в США находится на критически высокой отметке - более 70% ВВП, при том, что в 50-х годах прошлого века он едва превышал 23%.
Сейчас впору говорить о списании части кредитов населения, например, студенческих, а не об их росте.
Нет и демографического развития США без фактора трудовой миграции.
В этом контексте, Кругман прав - Великая умеренность со сбалансированными бюджетом, торговым балансом и уровнем госдолга в США в обозримом будущем не повторится.
Но у Америки есть хотя бы новая консервативная идеология.
Парадоксально, но модель нового консерватизма в чем-то повторяет либеральную модель развития 80-х годов: дешевый кредит, низкие налоги, протекционизм, инвестиции и дерегуляция бизнеса.
И одновременно отрицает модель неолиберализма 2000-х годов с его ростом социальных и бизнес регуляций, увеличением налогов и социальных расходов.
Что в итоге привело к критически низкому показателю предельной отдачи капитала в реальном секторе экономики и деиндустриализации (переносу производств за рубеж, прежде всего, в Китай, где фактор отдачи капитала несоизмеримо выше, чем в США).
Здесь мы в очередной раз наблюдаем принцип диалектического материализма - отрицание отрицания.
Неолиберализм отрицал старый либерализм.
А новый консерватизм отрицает неолиберализм, в чем-то возвращаясь к либеральным истокам: дерегуляция, снижению налогов и социальных расходов.
Хотя все указанное выше - это пока лишь декларации команды Трампа.
В отличие от Рейгана и его рейганомики, им пока не удалось перезапустить модель трампономики, контуры которой начали вот-вот появляться в 2016-2020 годах, когда они были безжалостно разрушены пандемией.
Нет пока и победы в геополитическом противостоянии - Китай оказался устойчивее Советского Союза и "дешевая нефть" для него лишь благо.
А вот закрытие рынка США для китайских товаров - сильнее бьет по американской экономике, нежели по китайской.
Одновременно являясь и весьма опасным проинфляционным фактором, о чем не позабыл упомянуть недавно в своем интервью и глава ФРС Джером Пауэлл. Тут уже не до дешевых кредитов.
А маховик социальных расходов в США разогнался настолько, что его просто так не остановить.
В этом плане, становятся понятными слова Питера Тиля, главы "пэйпел мафии" в окружении Трампа о несочетании свободы и демократии.
Постоянные электоральные циклы действительно множат на ноль длительные, социально токсичные реформы.
У политических элит нет свободы для таких трансформаций в рамках старой модели демократии, которая превращается в охлократию.
Пока в новейшей истории путь социальной рестрикции был поддержан лишь несколько раз: в Аргентине (выборы Милея) и в Украине на парламентских выборах 2014 года.
На них получили мандат действительно те политические силы, которые обещали сделать "хуже", что когда-нибудь приведет к тому, что жить станет "лучше".
Но повторюсь еще раз: в США, в отличие от ЕС, есть новая идеология роста.
С ней можно не соглашаться, но она постепенно кристализируется в виде идеологии MAGA - Make America Great Again.
Европа же пытается развить "неолиберальную геополитическую маскулинность" на базе прежней воук-идеологии.
Это как заставить сторонника Ахимсы есть мясо с кровью.