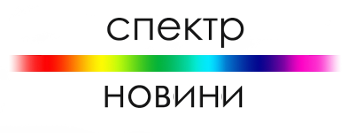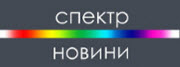Смерть в марте 2025 года Олега Гордиевского, бывшего полковника КГБ, перебежавшего на сторону Великобритании, предсказуемо вызвала разнообразные реакции. Пресса демократических стран уважительно писала о его заслугах в деле предотвращения третьей мировой войны. Путинская Комсомольская правда озаглавила свой материал на эту тему, пишет Echofm;
«Вербовка в борделе и побег в багажнике: в Британии умер шпион Гордиевский»
Такими же разнообразными были и реакции в русскоязычных соцсетях, что особенно интересно. Как правило, по комментариям можно было угадать политические взгляды самих комментаторов. Преобладали плевки в адрес предателя и мудрые назидательные сентенции типа «Предателей никто не любит».
Конечно, никакая это не мудрость, а чистое вранье. Многих предателей порядочные люди любят и уважают с полным на то основанием. А вот тех, кто их проклинает, обоснованно не любят и не уважают. Все зависит от того, кого и почему они предали. Кем были и кем стали.
Вообще-то, не было в СССР более отвратительной и вредоносной профессии, чем служба в КГБ. Разве что служба школьным учителем истории. Впрочем, тут прямая связь. Лучшие ученики этих учителей и шли, как правило, в сотрудники органов. Для этого требовалось не только историческое невежество, но и отсутствие совести, профессиональный цинизм. Но не со всеми и всегда это срабатывало. Тем более, что профессия советского разведчика требовала взаимоисключающих качеств. Совсем дураков туда не брали, себе дороже. А умный опасен тем, что может и сам додуматься до неприятных для начальства и правительства вещей. Тут дело спасал цинизм. Но, не всегда. Время от времени случались проколы. Совершенно естественно, что человек обнаруживший, что его втянули в банду и занимается он грязным делом, может оказаться достаточно порядочным и смелым, чтобы банду предать. Бежать из нее и перейти на сторону полиции. При этом он не ухудшал, а улучшал свою репутацию – в глазах цивилизованных людей, конечно, а не членов банды. Но у бандитов, как известно, своя мораль.
Зато по реакции на его предательство можно легко определить, кто из сегодняшних комментаторов стоит на стороне банды, то есть сам потенциальный преступник, а кто не бандит, а цивилизованный человек.
***
Бегство на Запад сотрудников советских разведывательных органов – чисто советский феномен. И по количеству беглецов, и по специфике самого явления. Впрочем, это касается не только разведчиков. Поток беглецов из числа сотрудников советских зарубежных организаций и представительств был хронической бедой советской власти с самого начала ее существования. Собственно, бежали бы (и бежали некоторые, рискуя жизнью) и прямо с территории СССР, но границы охранялись. Тем, кто служил за рубежом, бежать было естественно легче. Даже бежать не надо было, достаточно было уволиться со службы и раствориться в пространстве. В 20-е годы так называемых «невозвращенцев», то есть совслужащих, отказавшихся возвращаться в СССР по приказу начальства были многие сотни. К середине 30-х поток беглецов усох, но полностью не прекратился никогда.
Едва возникнув, Советская Россия закрыла границы, запретив своим граждан свободный выезд за границу. Любые командировки требовали разрешения тайной политической полиции – ОГПУ. В 20-е годы добиться выезда по личной надобности еще было можно, но к концу 20-х – когда Сталин начал свои социальные и экономические реформы – железный занавес оказался практически непроницаемым изнутри. Едва ли не единственной возможностью покинуть СССР навсегда стало устройство на заграничную советскую службу с последующим отказом вернуться в СССР. Основной поток «невозвращенцев» шел из советских дипломатических и внешнеторговых представительств за границей. Партийцев среди совслужащих изначально было относительно мало, в основном это были специалисты в разных областях – инженеры и экономисты – с дореволюционным образованием и стажем. Работа за границей на советскую власть их до поры до времени устраивала, но отзыв в СССР – нет. После ликвидации НЭП в 1927–28 годах они начали оставаться за границей массами. Чем страшнее становилась жизнь вы СССР, тем больше было «невозвращенцев». Впрочем, и членов партии среди «невозвращенцев» хватало. Возвращение в СССР в нищету, бесправие и под надзор ОГПУ пугало всех.
В 1930 году на ХVI съезде ВКП (б) председатель ЦКК Орджоникидзе очень откровенно говорил о проблеме «невозвращенцев» в Наркомате внешней и внутренней торговли СССР:
«Мы, по директиве ЦК, разработали план реорганизации заграничного торгового аппарата; реорганизация привела к тому, что мы сократили этот аппарат почти наполовину. Из 2 500 человек осталось 1 400, сокращено было 41,6%. Но дело не только в этом, товарищи. Если наш аппарат здесь, внутри Союза, находится под наблюдением нашей партии, если здесь мы имеем такой орган, как наше ОГПУ, и ряд контрольных органов, то за границей мы всего этого лишены и поэтому, казалось бы, что в заграничном аппарате надо иметь самых стойких, самых выдержанных работников, как коммунистов, так и беспартийных. К сожалению, очень часто оказывается, что там мы имеем порядочную шваль. Достаточно вам сказать, что мы имеем за 1926 г. невозвращенцев 38 человек, за 1927 г. – 26 человек, за 1928 г. – 32 человека, за 1929 г. – 65 человек, за 1930 г. – 43 человека пока, за первое полугодие. Вы думаете товарищи, что это только одни беспартийные? Нет, к стыду нашему, тут есть и партийные. Только за 1929 г. партийных не вернулось обратно 10 человек, за этот год отказалось вернуться еще несколько человек»
Орджоникидзе честно признает, что удержать совслужащих от бегства из СССР можно только с помощью ОГПУ, то есть террором. Но за границей возможности ОГПУ резко уменьшаются. Эта коллизия продолжалась все десятилетия существования СССР.
По данным историка Владимира Гениса с октября 1928 по август 1930 г. 190 служащих торговых представительств отказались возвращаться в СССР. Все они были объявлены предателями. Усилия властей контролировать подбор кадров, насыщать заграничные представительства партийцами, шантажировать сотрудников оставшимися в СССР родственниками-заложниками и репрессиями давали свой эффект, но полностью поток невозвращенцев пресечь не могли. И никогда не смогли.
Специфика советского государственного устройства состояла в том, что без «железного занавеса», то есть запертых изнутри границ, оно не могло существовать. Значительная часть населения всегда стремилась убраться из него, причем не только диссиденты-антисоветчики, но и вообще все слои населения. Поскольку то, что жизнь за границей намного лучше советской, понимали почти все и всегда, несмотря на тотальную коммунистическую пропаганду и тотальное советское воспитание. И уж тем более те, кому довелось побывать за границей.
Особенно опасными для советской власти были перебежчики из дипломатического ведомства и спецслужб – ОГПУ (с 1934 г. – НКВД, потом КГБ) и ГРУ (военной разведки). Во-первых, они были носителями государственных политических секретов, во-вторых владели информацией о советских государственных преступлениях и методах работы своих ведомств.
Советские спецслужбы отличались от разведывательных служб абсолютного большинства иностранных государств, против которых они работали, тем что их деятельность практически целиком была преступной. Охота за военными и политическими секретами иностранных государств была только одной из задач, относительной невинной – если забыть о том, что, Советский Союз все годы своего существования готовил мировую войну, до 1939 года – вторую, после 1945 года – третью. На эту сверхзадачу работали и все спецслужбы. Но кроме того, с самого начала, со времен Иностранного отдела ОГПУ 20-х годов, офицеры и агенты спецслужб занимались террором (политическими убийствами и похищениями), диверсиями, массовой вербовкой новых агентов в самых разных слоях западного общества, дезинформацией, лживой идеологической пропагандой, дестабилизацией политической ситуации во всех иностранных государствах, иногда напрямую организацией восстаний и путчей. Важнейшей задачей было наблюдением за русской эмиграцией с ее многочисленными антисоветскими организациями. Эмиграция с 20-х годов служила и основной вербовочной базой заграничной агентуры. По количеству сотрудников и агентов, по размаху и многообразию деятельности, по масштабам финансирования советские спецслужбы намного превосходили аналогичные службы других стран, занимавшиеся всего лишь политической и военной разведкой. Эту картину мы наблюдаем и сейчас, в путинскую эпоху.
В офицеры спецслужб шли, как правило молодые люди, многократно проверенные и пропитанные советской идеологией. Но среди многих сотен и тысяч сотрудников спецслужб находились такие, которые не сразу, но осознавали, какой мерзостью они занимаются. Работа за границей этому способствовала. У некоторых хватало смелости бежать. Кто-то бежал из идейных соображений, кто-то под угрозой репрессий (в конце 30-х годов Сталин чистил НКВД и внешнюю разведку очень интенсивно). У кого-то срабатывали оба фактора – угроза репрессий была последним толчком для измены. Но сам по себе феномен массового перехода офицеров спецслужб на сторону идеологического противника – чисто советский. В обратную сторону – в Советский Союз – бежали только завербованные советскими агентами иностранцы под угрозой разоблачения.
Среди множества перебежчиков хватало желающих поделиться своим опытом в печати. Рассказать не только о том, почему они сбежали, но и о том, что собой представляют Советский Союз с его спецслужбами и чем он опасен для внешнего мира. За перебежчиками шла постоянная охота, публикации такого рода резко увеличивали риск для жизни, но многим он казался оправданным. Библиотека книг, написанных беглыми советскими разведчиками обширна и представляет собой огромную ценность. Собственно, другой документальной базы для изучения внутреннего устройства, целей и задач советских спецслужб в советское время не было. Да и в постсоветское ее стало ненамного больше. Самые важные архивы оставались и остаются закрытыми, а творчество путинских историков в погонах имеет скорее отрицательную историческую ценность.
Одно из самых ранних таких сочинений – книга Евгения Васильевича Думбадзе «На службе ЧК и Коминтерна», изданная в Париже в 1930 г. Сотрудник ЧК с 1921 года и разведчик Евгений Думбадзе работал в Турции и во Франции на ИНО (иностранный отдел) ОГПУ. Он порвал с большевиками в Париже в 1928 г. Думбадзе имел глупость вернуться в 1941 г. в СССР и был расстрелян.
В 1930 году во Францию бежал резидент советской нелегальной разведки в Турции Георгий Агабеков. Одна его книга «ГПУ. Записки чекиста» была издана в 1930 г., другая, «Чека за работой», – в 1931, обе в Берлине. До Агабекова его коллеги в конце концов добрались, он был убит в 1937 году в Испании.
В 1936 году в Шанхае на русском языке вышла книга Николая Игнатьевича Киселева-Громова «Лагеря смерти в СССР». Автор был сотрудником ОГПУ, служил в Информационно-следственном отделе (ИСО) и в штабах Военизированной охраны лагерей управления СЛОНА (Соловецкого лагеря особого назначения). Он бежал в Финляндию в 1930 г. В 1938 году в Германии вышло немецкое, гораздо более полное издание этой книги, одного из первых исследований раннесоветской лагерной системы.
Под словами Киселева-Громова могли бы подписаться многие другие перебежчики:
«”Бежал я за границу …не потому, что мне у большевиков жилось материально плохо, и не для того, чтобы за границей найти материально лучшую жизнь… Бежал я и не потому, что крысы всегда бегут с гибнущего корабля: советский корабль довольно крепок и тонуть он пока что не собирается; наоборот, он ежечасно готовится к тому, чтобы топить корабли капиталистической конструкции… Я бежал за границу, чтобы целиком отдать свою оставшуюся жизнь, знания и опыт на дело освобождения России от большевиков”».
В 1937 году во Францию из Греции бежал и попросил политическое убежище высокопоставленный военный, комбриг (бригадный генерал), дипломат, резидент ГРУ во Франции, а потом поверенный в делах СССР в Греции Александр Бармин. В 1938 г. в Лондоне вышла его книга «Memoirs of a Soviet Diplomat: Twenty Years in the Service of the U.S.S.R». По-русски книга его интереснейших мемуаров под названием «Соколы Троцкого» вышла в 1997 г., через 10 лет после его смерти. Бармин с 1953 года руководил Русской службой американской правительственной радиостанции «Голос Америки».
В 1938 году под угрозой репрессий отказался возвращаться в СССР и бежал в США Александр Орлов (Лейба Фельдбин) – старший майор госбезопасности (генерал-майор по нынешней табели о рангах), нелегальный резидент НКВД во Франции, Австрии, Италии, а потом, резидент НКВД и советник республиканского правительства по безопасности в Испании. Его книга «Тайная история сталинских преступлений» была опубликована в 1952 году (русское издание –1983 году». В 1963 г. вышла вторая книга Орлова, «Пособие по контрразведке и ведению партизанской войны» (A Handbook of Intelligence and Guerilla Warfare).
В 1942 году в Турции политическое убежище попросил офицер ГРУ Исмаил Ахмедов. Его книга «In and out of Stalin’s GRU: A Tatar’s Escape from Red Army Intelligence» (Служба в сталинском ГРУ и побег из него. Бегство татарина из разведки Красной армии») вышла в США в 1984 году.
Особое место в этом списке занимает книга Николая Синевирского (псевдоним Михаила Мондича) «СМЕРШ – год в стане врага», вышедшая в 1948 году в Германии. Мондич был членом Народно-Трудового Союза (НТС) и в 1944 г. по заданию НТС устроился на работу переводчиком в СМЕРШ, когда Карпатская Украина была занята советскими войсками. Он бежал в Западную Германию в 1947 году. Впоследствии работал вместе с женой в русской редакции Радио Свобода в Мюнхене.
В 1954 году американским властям в Германии добровольно сдался сотрудник НКВД Николай Хохлов, посланный для убийства одного из лидеров НТС Георгия Околовича. Книга Хохлова «Право на совесть» вышла в 1957 году в Германии.
В 1970 году из Индии в Канаду бежал сотрудник КГБ, специалист по дезинформации работавший под журналистским прикрытием, Юрий Безменов. Его книга «Письмо Америке с любовью» («Love Letter to America») под псевдонимом «Томас Шуман» вышла в 1984 году.
Майор КГБ Станислав Левченко, работавший в Японии под журналистским прикрытием, перебежал в США в 1979 г. В 1988 году в Нью-Йорке вышла его книга «Против течения. 10 лет в КГБ».
Среди перебежчиков, публиковавших свои мемуары, можно выделить несколько авторов фундаментальных исследований по советской истории, без работ которых невозможно представить себе современную историографию СССР. В первую очередь это Абдуррахман Авторханов и Виктор Суворов.
Высокопоставленный партийный функционер из Чечни, выпускник Института красной профессуры Абдуррахман Авторханов был арестован во второй половине 30-х годов. После нескольких лет тюрьмы, пыток и случайного освобождения он перебежал в 1942 году на Кавказе на немецкую сторону и стал после войны крупнейшим советологом, профессором американского Русского института армии США в Германии. Самая известная книга Авторханова «Технология власти» вышла первым изданием в 1959 году и подпольно распространялась в СССР. «Загадка смерти Сталина» вышла в 1976 году, «Мемуары» – в 1983. В целом научное наследие умершего в 1997 году Авторханова огромно и чрезвычайно ценно.
Офицер ГРУ Владимир Резун, работавший в Женеве под дипломатическим прикрытием, перебежал на сторону Великобритании в 1978 г. Под псевдонимом «Виктор Суворов» он стал автором серии блестящих исторических исследований, поставивших с головы на ноги историю подготовки и участия Советского Союза во второй мировой войне.
К числу важнейших научных источников надо добавить еще несколько книг дипломатов, партийцев и военных, порвавших с большевиками.
Одним из первых дипломатов-«невозвращенцев» был старый большевик Георгий Соломон, знакомый Ленина и друг видного большевика Леонида Красина. Сразу после революции он был советским консулом в Гамбурге, занимал высокие посты в наркомате внешней торговли, потом руководил компанией «Аркос» в Лондоне. Это была формально частная компания, а в реальности советское торговое представительство и одновременно пропагандистско-разведывательный центр. В 1922 году Соломон оставил советскую службу, отказался возвращаться в СССР и в 1930 году опубликовал разоблачительную книгу «Среди красных вождей. Личные воспоминания о пережитом и виденном на советской службе».
Борис Бажанов, помощник Сталина по Политбюро, разочаровавшись в коммунизме, бежал из СССР через границу с Ираном в 1928 году. В 1930 году он опубликовал по-французски ««Воспоминания бывшего секретаря Сталина», переведенные потом на множество языков.
Самый высокопоставленный на тот момент дипломат-«невозвращенец», советник постпредства СССР во Франции Григорий Беседовский бежал из советского посольства в 1929 году под угрозой репрессий и опубликовал интереснейшую книгу «На путях к Термидору» в 1931 году.
Военный корреспондент капитан Михаил Коряков попал в плен к немцам в 1945 году, был освобожден американцами и стал «невозвращенцем» в 1946 году в Париже, чтобы избежать принудительной репатриации в СССР. В 1948 году в Нью-Йорке вышла его книга «Почему я не возвращаюсь в Россию», в 1952 году — «Освобождение души». С 1953 года Коряков работал в нью-йоркской студии Радио Свобода.
В 1947 году в Германии на русском и немецком языках без указания издательства вышла небольшая брошюра «В побежденной Германии». Это был страстный антисталинский памфлет, написанный офицером Советской армии. Под псевдонимом «Сабик-Вогулов» скрывался капитан Владимир Южаков, бежавший в 1946 году в американскую зону оккупации.
Важное место в этом ряду занимает книга Олега Гордиевского и Кристофера Эндрю «КГБ. Тайны Лубянки: взгляд из Британии», вышедшая по-английски в 1990 г. и по-русски в 1992, уже в постсоветской России. Это фундаментальное исследование деятельности советской внешней разведки с момента ее возникновения и до развала СССР. В отличие от множества других перебежчиков, разведчик Олег Гордиевский, полковник Первого главного управления КГБ по собственной инициативе предложил свои услуги Великобритании и с 1974 по 1985 год работал на британскую разведку. Ему удалось бежать прямо с территории СССР в 1985 году, в самый последний момент, накануне разоблачения. Гордиевский считается самым крупным британским агентом в СССР после полковника ГРУ Олега Пеньковского, расстрелянного в 1963 году.
Еще один автор интереснейших книг – не разведчик, а власовец. Архитектор Николай Александрович Троицкий в 30-е годы был заместителем ученого секретаря Академии архитектуры. В 1938 году был арестован вместе со всей верхушкой Академии архитектуры, пытан, но неожиданно выпущен при Берии. Во время войны попал в плен, был редактором власовского журнала. Один авторов Пражского манифеста. После войны – руководитель власовского движения Союз борьбы за освобождение народов России (СБОНР). Возглавлял Институт по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене. Основал там же Толстовскую библиотеку. Соавтор, вместе с А. Бурцевым, книги «Концентрационные лагери СССР» (1954, под псевдонимом Б. Яковлев). Его поразительные мемуары «Ты, мое столетие…», вышли в 2006 г. Троицкий умер в 2011 году в США в возрасте 108 лет.
Это поверхностный и далеко не полный перечень мемуаров «невозвращенцев» и беглых сотрудников советских спецслужб. Даже по названиям легко заметить, что основной мотив и основная тема всех книг написанных перебежчиками – абсолютная аморальность целей и методов советской власти и ее разведорганов.
Здесь мы сталкиваемся опять же с чисто советским психологическим и этическим парадоксом. Честный советский офицер, выполнявший свой долг и соблюдавший присягу, порядочным быть не мог по определению. Он либо преступник, либо идейный сторонник преступников. В этих условиях вернуть себе человеческое достоинство можно было только став предателем режима. Решались на это немногие, но тем выше их ценность.
Отношение к предателям советских времен это, помимо прочего, отличный тест на нынешнюю пристойность общественных взглядов. Презрительное «предатель» в адрес беглых советских разведчиков однозначно указывает на то, что взгляды гнилые, даже если человек притворяется демократом.
Сегодня, когда точки над “i” в отношении советской истории расставлены, а путинская Россия заливает внешний мир толпами новых поколений гэбэшников, такой способ идентификации собеседника может оказаться весьма полезным.