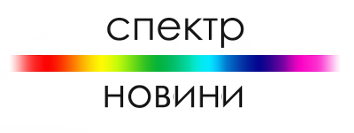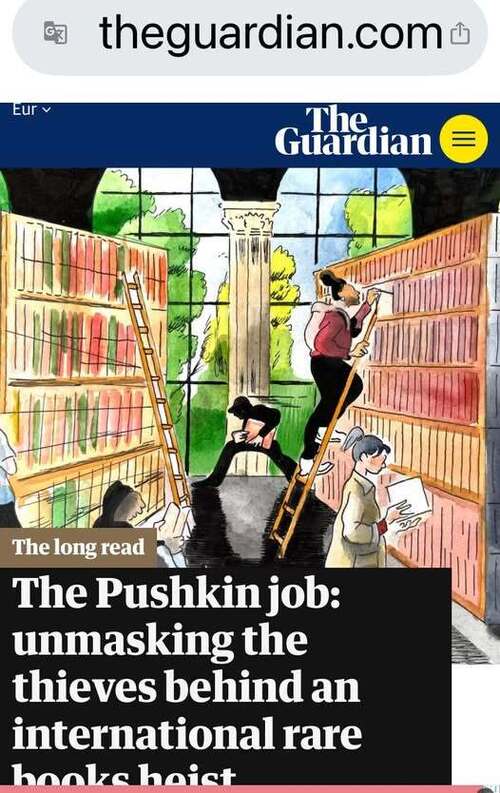Как книжные воры по заданию московского заказчика экспроприировали из европейских библиотек около 170 раритетных изданий русских книг
Об этом - расследование британской газеты Гардиан, перевод которого перед вами.
Часть 1 :
«Братья-разбойники
16 октября 2023 года в читальном зале второго этажа Варшавской университетской библиотеки за последний ряд столов сели молодой мужчина и женщина. Их читательские карточки были оформлены на имена Сильвена Хильдегард и Марко Оравец. Перед ними лежали восемь старинных книг из фонда XIX века — редкие издания классических произведений поэзии, драмы и прозы двух столпов русской литературы — Александра Пушкина и Николая Гоголя. Молодые люди внимательно изучали страницы, делали снимки на телефон и замеряли формат линейками.
Когда они не вернулись с «перекура», библиотекари подошли к их столу — и обнаружили, что пять из восьми книг исчезли. Среди похищенных пушкинских изданий было одно особенно символичное — поэма «Братья-разбойники». Казалось, будто воры решили оставить послание.
Через несколько дней, когда сотрудники провели более тщательную проверку фондов, выяснилось: за недели, а возможно — месяцы до этого эпизода из библиотеки пропали ещё 74 книги русской литературы. Воры действовали настолько умело, что заметить пропажу сразу никто не смог: на место оригиналов они подложили, как писала местная пресса, «высококачественные факсимиле». Им даже не пришлось беспокоиться о сигнализации — большинство книг Варшавской библиотеки снабжены магнитной полоской, которая срабатывает на выходе, если её не деактивировать. Но старые книги этой защиты не имели — специалисты опасались, что клей повредит бумагу.
Исчезновение стало сенсацией в Польше. «Это всё равно что выцарапать из короны бриллианты», — говорил Хероним Грала, бывший дипломат, помогавший университету оценить ущерб. Коллекция библиотеки, основанной ещё в 1817 году, когда Польша находилась под властью российского царя, отражала сложную историю польско-русских отношений. «Эти книги были подарены Польше в очень важные исторические моменты, — объяснял главный прокурор страны Бартуш Янды, возглавивший расследование. — То, что они свидетельствуют о русском империализме, не значит, что они не часть нашего культурного наследия».
Ограбление Варшавской библиотеки оказалось не единичным случаем, а скорее финальной остановкой на длинном маршруте беспрецедентного книжного криминального турне, которое в 2022–2023 годах протянулось через всю Европу — с северо-востока до юго-запада.
Около 170 редких русских изданий общей стоимостью свыше 2,5 миллиона фунтов стерлингов исчезли с полок Национальной библиотеки Латвии в Риге, двух университетских библиотек Эстонии, Вильнюсского университета в Литве, Национальной библиотеки Финляндии в Хельсинки, Национальной библиотеки Чехии в Праге, библиотеки Дидро в Лионе, Национальной библиотеки Франции и Парижской университетской библиотеки восточных языков и цивилизаций, Женевской библиотеки в Швейцарии, Государственной библиотеки в Берлине и Баварской государственной библиотеки в Мюнхене.
«По масштабу и изощрённости — ничего подобного нам ещё не приходилось расследовать», — сказала Лаура Беллен из южного окружного суда Эстонии, одна из первых прокуроров, взявшихся за это дело. — «Библиотеки просто не привыкли думать о себе как о мишени для серьёзных преступлений».
Часть 2:
Государственная операция по «возвращению культурного наследия»
Тактика воров во всех этих городах была схожей. Двое людей — мужчина и женщина — приходили под вымышленными именами и заказывали из фондов редкие русские книги. Если за ними наблюдали особенно внимательно, один отвлекал библиотекарей, а другой незаметно уносил книги.
Легенды они выбирали разные — и, похоже, не всегда это были одни и те же люди. В Варшаве они представлялись словаками, в Хельсинки — поляками. В Риге — украинскими беженцами, изучающими русскую историю. В Париже — болгарами, исследующими «демократию в русской литературе XIX века».
Ещё весной 2022 года следователи начали подозревать, что эти эпизоды связаны между собой. В декабре того же года полиция Латвии арестовала мужчину, чья ДНК была обнаружена на книгах, оставленных во время кражи в Национальной библиотеке Риги восемью месяцами ранее.
При обыске у него нашли читательские билеты библиотек Мюнхена, Вильнюса, Парижа, Киева и Вены, а также набор библиотечных штампов и инструменты для реставрации печатных изданий — иглы, катушки ниток, клей. Крупный, лысеющий мужчина с проседью на подбородке оказался гражданином Грузии — Бекой Цирекидзе, 46 лет. Следствие установило, что в прошлом он занимался антиквариатом и уже имел судимость за кражи. Его ДНК совпала также с образцами, найденными на месте апрельских краж 2022 года в соседней Эстонии. Цирекидзе экстрадировали туда, и он предстал перед судом.
Однако арест Цирекидзе оказался не финалом истории, а лишь её поворотом.
На двух процессах — в Тарту и Таллине, проходивших в первой половине 2024 года, — он упорно отказывался рассказывать, действовал ли по заказу и кто стоял за хищениями, хотя признание могло бы смягчить приговор.
В итоге он получил совокупное наказание — три с половиной года лишения свободы.
«Я бы сказала, что весьма вероятно, что его кражи кто-то направлял, — отмечала прокурор Беллен. — Но у нас нет никаких доказательств, кто именно мог быть этим “кем-то”».
Чтобы распутать эту континентальную головоломку — «пушкинское дело» — потребовалось настоящее общеевропейское сотрудничество.
В марте 2024 года агентство ЕС по борьбе с преступностью Eurojust создало совместную следственную группу, куда вошли представители полиции Франции, Литвы, Польши и Швейцарии. К участию пригласили и Грузию — хотя она не является членом Евросоюза, а лишь «операционным партнёром» агентства.
Все эти страны были едины в желании раскрыть преступления, но не во взглядах на их природу. Одни следователи полагали, что за всеми кражами стояла одна и та же группа. Другие подозревали несколько конкурирующих банд, охотившихся за одними и теми же редкими изданиями.
А над всем витал главный, тревожный вопрос — время.
Первая волна краж началась всего через два месяца после того, как Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину — в речи, где он говорил о «культуре и ценностях, опыте и традициях наших предков».
К тому моменту отношения между Россией и Евросоюзом достигли самого высокого уровня враждебности за десятилетия.
Так кто же действовал? Обычные мелкие жулики, воспользовавшиеся слабой охраной? Или нечто гораздо большее — тщательно организованная, пусть и неофициальная, государственная операция по “возвращению” культурного наследия, разбросанного по европейским библиотекам?
«На мой взгляд, — сказал польский прокурор Янды, — невозможно, чтобы группа случайных воров провернула всё это без участия государства».
Часть 3: «Пушкин как символ: от Сталина до Лаврова».
Общим знаменателем всех этих краж было одно имя — Александр Пушкин.
За пределами России он известен в основном по двум произведениям, вдохновившим Чайковского: «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Остальное читают редко.
«Проблема с Пушкиным в том, что он прежде всего поэт, — а поэзию очень трудно переводить», — объясняет лондонский букинист Пьер-Ив Гийомé, специалист по русской литературе.
В самой России, напротив, Пушкина почитают как фундаментальную фигуру национального самосознания.
На протяжении двух веков его неоднозначные политические взгляды позволяли самым разным режимам — от империи до СССР — объявлять его своим.
«Он, несомненно, был патриотом и, как почти всё его дворянское окружение, монархистом», — говорит профессор русской литературы Оксфорда Эндрю Кан. — «Но в нём был и дух бунта».
В юности Пушкин написал стихотворение «Кинжал», прославлявшее цареубийство, и дружил с участниками неудавшегося декабрьского восстания 1825 года.
Когда в 1937-м Сталин решил отметить столетие со дня смерти поэта, он устроил грандиозные выставки, памятники, спектакли и выпустил юбилейные издания Пушкина на десятках языков. Это был сознательный шаг — создать фигуру, вокруг которой многонациональный советский народ мог бы объединиться.
Позже, в последние годы советской эпохи, диссиденты вроде Андрея Синявского попытались вернуть Пушкина из рук официоза — подчеркнув в нём не идеологию, а эротизм, свободу и человеческое начало.
В XXI веке российское государство сделало обратный выбор.
Теперь на первый план выдвигаются самые патриотические и воинственные тексты поэта.
Пушкин поддерживал подавление польского восстания 1830–31 годов, в котором против Российской империи поднялись поляки, литовцы, белорусы и украинцы.
В поэме «Клеветникам России» он писал, что судьба славянских народов — «слиться с русским морем» или «иссохнуть».
В ноябре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовал видео, где сам читает это стихотворение — между кадрами с президентом США Джо Байденом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
А несколькими месяцами ранее, когда российские войска продвигались по украинской территории, на занятых ими городских площадях появлялись плакаты с портретом Пушкина.
Для многих украинцев, выросших на русской культуре, подобное почитание поэта стало символом лицемерия и прикрытием для преступлений.
«Мир всё ещё слишком сентиментален по отношению к “великому культурному наследию России”, — говорит украинский писатель и литературовед Александр Михед. — Это даёт русским возможность говорить: мы вас убьём, потом попросим прощения и расскажем, что наша душа загадочна. А потом убьём кого-нибудь ещё — и всё повторится».
Часть 4:
«Переход границ»
Одним из самых поразительных обстоятельств этой истории было то, насколько просто происходили многие кражи.
Первая из них едва ли заслуживала название «ограбление».
С 24 марта по 8 апреля 2022 года Бека Цирекидзе просто взял на руки десять редких томов из Академической библиотеки Таллинского университета, среди них — издание 1834 года «Истории Пугачёва» Пушкина. Единственное, что требовалось от него как от преступника, — не вернуть книги обратно.
В апреле 2022 года Цирекидзе с сообщником побывали в Национальной библиотеке Латвии в Риге. Там им удалось заказать в главный читальный зал — без присмотра — издание 1829 года «Полтавы» стоимостью около 10 000 евро, а также ещё две ценные книги.
Большинство академических библиотек Европы защищают свои фонды с помощью меток, приклеенных на внутреннюю сторону переплёта и срабатывающих на выходе.
В Риге всё оказалось проще: злоумышленники нашли тихий уголок, отскребли метки, спрятали книги под одежду — и спокойно вышли из здания.
Что же до «высококачественных подделок», которыми воры заменяли оригиналы, — многие специалисты сомневаются, что это действительно были шедевры фальсификации.
Британский историк эпохи Возрождения Ник Уайлдинг, один из ведущих мировых экспертов по подделкам старопечатных книг, относится к этому скептически.
Он прославился в 2012 году, когда разоблачил подделку трактата Галилея Sidereus Nuncius, где впервые было напечатано изображение Луны, увиденной через телескоп. Тогдашний фальсификатор, итальянский библиотекарь Марино Массимо де Каро, потратил на свою «работу» больше года: делал бумагу вручную, состаривал её парами серной кислоты, обрабатывал на слабом жаре. Уайлдинга насторожила лишь едва заметная неровность штампа и невозможность одного из шрифтов.
На этом фоне «пушкинские» подделки выглядели дилетантскими.
Фотографии факсимиле книги 1802 года показывали резкий контраст между чисто-белой бумагой титульного листа и пожелтевшими страницами остального тома.
По мнению Уайлдинга, чтобы обмануть уставших библиотекарей на выдаче, воры просто вклеивали отсканированный титульный лист в менее ценный том XIX века — возможно, второго издания той же книги.
В университете Тарту в Эстонии выяснилось, что подделки представляли собой просто немецкие книги XIX века, вшитые в оригинальные обложки Пушкина и Гоголя.
«Это довольно примитивно, — сказал он. — Я даже не уверен, что слово “фальсификация” тут подходит. Они настолько плохи».
И всё же перед следствием стоял ключевой вопрос:
действительно ли за этими кражами стояла профессиональная сеть, или это были просто ловкие авантюристы, воспользовавшиеся беззащитностью библиотек?
После Эстонии и Латвии волна краж переместилась севернее — в Финляндию весной 2023 года, а в мае дошла до Литвы.
Затем настала очередь Франции.
В июле 2023 года из библиотеки Дидро в Лионе исчезли десять книг, включая раннее издание «Бориса Годунова» стоимостью около 70 000 евро.
В Париже тревогу забила библиотекарь Аглая Ачехова, заведующая русской коллекцией Университетской библиотеки восточных языков и цивилизаций (Bulac).
Бывшая сотрудница Пушкинского музея в Петербурге, она прекрасно понимала ценность похищенных томов.
«Я убеждена, что это заказная кража», — написала она в июльском письме коллегам. — «Эти книги мог поручить украсть богатый коллекционер».
Ачехова предупредила: наш фонд может стать следующей целью.
До «пушкинских» ограблений самым громким книжным преступлением считалось так называемое «Фелтемское дело» 2017 года, когда банда румын спустилась с верёвками в склад у аэропорта Хитроу и похитила 200 редких книг на сумму более 2,5 млн фунтов.
Тогда предполагали, что воры работали по списку, предоставленному коллекционером, но на суде в 2020-м версия не подтвердилась: преступники брали всё, что выглядело богато, и не смогли продать добычу, зарыв её под полом дома в румынской деревне.
Ачехова же настаивала, что в случае с Пушкиным всё иначе.
Все похищенные к тому моменту книги были, по её словам, легендарными для любого русскоязычного библиофила.
С точки зрения коллекционера, ценность этих изданий заключалась не столько в содержании, сколько в их происхождении: они были изданы при жизни автора, умершего в 37 лет.
(Судьба Пушкина, погибшего на дуэли с французским офицером, словно повторила сюжет его Евгения Онегина.)
Два других автора, книги которых также активно крали, — Лермонтов и Гоголь — умерли в 26 и 42 года соответственно.
Толстой, напротив, дожил до 82.
«Это тот же эффект, что у рок-звёзд, — говорит Гийомé. — Чем раньше они умирают, тем дороже становятся».
На рубеже 2010-х цены на «прижизненные издания» Пушкина выросли стремительно.
В 2018 году «Полтава» 1829 года ушла на Sotheby’s за £32 500 — вдвое выше оценки.
А в 2019 году первое издание «Евгения Онегина», оценённое в £120 000, было продано на Christie’s за £467 250.
После начала «специальной военной операции» крупнейшие аукционные дома Европы прекратили сотрудничество с российскими покупателями и продавцами — предложение редких книг сократилось, а цены взлетели ещё выше.
В письме коллегам Ачехова приложила список самых редких пушкинских изданий из коллекции Bulac.
«Мы словно начали ждать, когда придут преступники», — вспоминала она.
Ждать пришлось недолго.
9 октября 2023 года в библиотеке зарегистрировались двое мужчин, представившихся болгарами, — и заказали точно те книги, что фигурировали в её списке.
На этот раз ворам не повезло: им позволили работать с книгами только под неусыпным надзором персонала.
Тем же вечером руководство Bulac связалось с полицией, но преступники опередили действия властей.
Ночью они разбили железным прутом окно со стороны улицы, проникли внутрь и направились прямо в тот читальный зал, где были днём.
Однако самые ценные книги к тому времени уже находились в сейфе в подвале.
Не сумев до них добраться, воры ушли с жалкими брошюрами.
Хуже того, разбив стекло, они порезались — и оставили следы крови на стене и ковре, подарив следствию ценную улику.
Спустя неделю после неудачи в Париже произошла последняя серия краж — в Варшаве.
А в ноябре 2023 года библиотекари Баварской государственной библиотеки в Мюнхене обнаружили, что и их коллекция подверглась нападению.
Исчезли два тома Гоголя — второй и третий из четырёхтомного собрания.
Злоумышленники заказали все четыре, изучили, но похитили лишь два — как будто вычеркивали пункты из заранее составленного списка.
В том же ноябре, спустя восемь месяцев после создания совместной следственной группы Eurojust, полиция наконец одержала первую победу.
В аэропорту Брюсселя арестовали гражданина Грузии Михаила Замтарадзе, подозреваемого в кражах в Париже и Вильнюсе.
Его экстрадировали в Литву по европейскому ордеру на арест.
24 апреля 2024 года в Грузии задержали ещё четырёх граждан страны, а 16 мая — пятого.
Во время допросов в Тбилиси следователи наконец получили прорыв.
Одна из арестованных призналась, что именно она — та самая женщина, укравшая книги в Варшаве.
Появилась надежда, что теперь внутренний механизм «пушкинских краж» станет понятен.
Часть 5:
Ключевой поворот истории
21 октября 2024 года перед судом в Тбилиси предстала молодая женщина, на чьей варшавской читательской карточке значилось имя «Сильвена Хильдегард».
На самом деле её звали Анна Гоголадзе.
Зал суда был переполнен: пришли журналисты, друзья и родственники.
Двадцатитрёхлетняя женщина с окрашенными в красный цвет волосами сперва казалась растерянной, но, начав рассказывать о том, как происходило похищение, постепенно обрела уверенность.
За месяц до варшавской кражи Анна получила сообщение в Telegram от своего мужа — Мате Цирекидзе, сына того самого Беки Цирекидзе, который уже сидел в тюрьме за кражи книг в Латвии и Эстонии.
Анна и Мате поженились несколькими годами ранее, у них был ребёнок, но отношения к тому моменту испортились: она жила в Тбилиси, растила сына одна, а он работал за границей на стройках.
В сообщении Мате предлагал ей поехать с ним в Польшу и… украсть редкие книги.
Анна не сразу восприняла это всерьёз, но денег ей не хватало, и, как она призналась суду, «с неохотой согласилась».
В Тбилиси сестра Мате передала им поддельные паспорта и билеты в Варшаву.
Там они поселились в гостевом доме, а на следующий день зарегистрировались в библиотеке под фальшивыми именами.
Гоголадзе не имела университетского образования и едва читала по-русски, поэтому никакой «экспертизы» в редких книгах не приносила.
Она рассказала суду, что узнала имя Николая Гоголя только потому, что оно совпало с её собственной фамилией.
После кражи они выбросили поддельные документы, сели в такси до другого польского города — название которого она не запомнила, — а оттуда поехали в Вену.
Там они передали украденные книги какому-то посреднику и вернулись в Тбилиси самолётом.
Но вместо разгадки история лишь ещё сильнее запуталась.
Если Анна и Мате украли только пять книг, то кто взял остальные семьдесят четыре, пропавшие из Варшавской библиотеки?
К тому же, когда они вернулись домой, сестра Мате передала им обратно те самые пять томов — со словами, что это подделки, а не оригиналы.
Для Анны это стало настоящим ударом: вместо обещанного вознаграждения ей оплатили лишь дорогу.
К концу года супруги окончательно расстались.
В феврале 2025 года суд признал Мате, Анну и ещё трёх фигурантов виновными в кражах русских книг из библиотек восьми стран ЕС.
Мате и остальные получили реальные сроки, а Анна — условный приговор.
Показания Гоголадзе породили новую версию, совершенно отличную от прежних.
Вместо тщательно спланированной международной операции картина всё больше напоминала комедию ошибок — что-то вроде “Братьев Маркс”, где банды мешают друг другу и путают настоящие книги с подделками.
По словам источников в совместной следственной группе Eurojust, между национальными прокуратурами действительно возникли серьёзные разногласия.
Грузинская сторона считала, что некоторые книги, украденные Гоголадзе, были подлинными — и что сестра Мате просто обманула Анну, чтобы не платить ей.
Польские следователи думали иначе: они полагали, что пара действительно украла бесполезные копии, возможно, намеренно — чтобы замести следы предыдущей, более профессиональной кражи.
Даже споры о таких, казалось бы, «мелочах» отражали глубокие противоречия в понимании всего дела.
Чем сложнее выглядела схема, тем убедительнее становилась версия о возможном участии российского государства, по крайней мере косвенном.
Прокуроры из стран ЕС всё сильнее раздражались тем, как медленно двигалось расследование в Тбилиси.
Некоторые утверждали, что в деле замешано больше подозреваемых, чем официально предъявлено обвинений, но грузинская прокуратура действовала осторожно и медлила: одновременно шли громкие процессы против проевропейских активистов, и власти явно не хотели обострять отношения с Москвой.
«Грузия просто боится делать что-то, что может испортить отношения с Россией», — сказал один из европейских прокуроров.
Между тем, время шло, а прорыва не было.
Прошёл уже год с начала международного расследования, когда внезапно к делу присоединилась новая страна: Национальная библиотека Нидерландов сообщила, что ещё в марте 2023 года из её фондов в Гааге, буквально в нескольких километрах от штаб-квартиры Eurojust, также исчезли шесть редких пушкинских изданий.
Вместо того чтобы сузить круг подозреваемых, следователи поняли: масштаб преступления продолжает расти.
Часть 6:
След “русского коллекционера”
Лишь весной 2025 года вся картина начала наконец складываться.
В апреле в Вильнюсе, столице Литвы, перед судом предстал Михаил Замтарадзе, тот самый грузин, задержанный пятью месяцами ранее в аэропорту Брюсселя.
Его обвиняли в краже 17 редких книг общей стоимостью более 600 000 евро из библиотеки Вильнюсского университета в мае 2023 года.
Крупный пятидесятилетний мужчина с высоким лбом и окладистой бородой отрицать сам факт кражи не стал, но утверждал, что действовал спонтанно, «по обстоятельствам».
По его версии, он зарабатывал на жизнь тем, что покупал и перепродавал старинные вещи, и прибыл в Литву лишь с намерением покупать книги, а не воровать.
Однако свидетельства, представленные в суде, рисовали совершенно иную историю.
Сотрудники библиотеки рассказывали, как Замтарадзе, улыбчивый и обходительный, втирался в доверие, менял книги с места на место, чтобы запутать библиотекарей.
Французские следователи сообщили, что в том же году он появлялся и в Париже — в Национальной библиотеке Франции, — с рукой в гипсовой повязке. Позднее выяснилось, что он прятал украденные страницы внутри “гипса”.
В гостиничном номере Замтарадзе печатал поддельные титульные листы на обычном цветном струйном принтере — настолько дешёвом, что выбрасывал его, когда заканчивался картридж.
Данные GPS с его телефона показали, что в 2022–2023 годах он перемещался почти по всей Европе — Польша, Германия, Франция, Бельгия, Чехия, Эстония, Украина…
Маршрут, достойный международного бизнесмена, но никак не безработного отца пяти детей, живущего на пособие.
Замтарадзе упорно представлял себя одиноким “волком”, действовавшим без всяких связей.
Но квитанции из отелей и кадры с камер наблюдения говорили обратное: он часто останавливался в тех же гостиницах, а порой и в тех же номерах, что и другие подозреваемые — все из Грузии.
Один из них, 45-летний перекупщик подержанных машин Роберт Цатуров, когда-то служил с ним в армии.
Переписка, извлечённая из телефона, показывала отношения, где Замтарадзе явно командовал:
«Ты меня раздражаешь», — писал он в одном сообщении.
«Ты молодец, парень», — в другом.
В голосовом — ещё грубее: «Ты что, ослеп или притворяешься?»
Особенно важная улика появилась, когда французская полиция просмотрела камеры на террасе Национальной библиотеки Франции 25 октября 2023 года:
Замтарадзе во время перекура переписывался по телефону, прямо под объективом камеры.
В сообщении Цатурову он писал:
«Веди себя спокойно, и всё будет нормально. Никто за тобой не следит, это просто страх внутри. Главное — незаметная замена, всё остальное неважно».
В июне 2025 года суд в Литве признал Замтарадзе виновным и приговорил к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы.
В приговоре судья отметил, что подсудимый действовал не в одиночку, а как часть организованной группы, участники которой «разделили между собой роли и реализовали заранее спланированную схему краж и подмен».
Следствие считало, что мозгами операции были Михаил Замтарадзе и Бека Цирекидзе, а исполнителями — их родственники и старые знакомые.
Но даже внутри этой группы царили обман и соперничество: Замтарадзе, например, утверждал польским следователям, что именно он похитил книги из Варшавской библиотеки, оставив Мате Цирекидзе и Анну Гоголадзе лишь никчёмные копии.
Оставался главный вопрос: по чьему заказу действовали грузины?
И здесь Замтарадзе неожиданно заговорил.
По его словам, во время пребывания в Вильнюсе ему позвонил некий человек по имени Максим, записанный в телефоне как “Maxim (RU)”.
Тот представился российским коллекционером и торговцем редкими книгами, с которым Замтарадзе будто бы уже имел дела раньше.
Максим интересовался старинными изданиями Пушкина.
Замтарадзе сфотографировал для него несколько самых ценных экземпляров из вильнюсской библиотеки и переслал снимки.
Через неделю из Минска, автобусом, Максим якобы отправил ему 12 подделок этих же изданий — значительно лучшего качества, чем самодельные копии Замтарадзе.
Тот обменял оригиналы на фальшивки, упаковал настоящие книги и отправил их обратно тем же маршрутом — в Минск.
В ответ, по его словам, получил 30 000 долларов в криптовалюте.
На суде он назвал покупателя по полному имени — Максим Цитрин, — но ни один антиквар с таким именем в России неизвестен.
Зато существует Максим Циприс, директор московского интернет-магазина редких изданий «Старая книга».
В интервью 2019 года Циприс говорил, что «прижизненные издания классиков — самые интересные вещи на моих полках».
На звонки журналистов он ответил, что получил письмо с запросом о комментарии, но пользоваться “правом на ответ” не стал.
Является ли Циприс тем самым «Максимом» — неизвестно.
В среде букинистов полагают, что он слишком мелкая фигура, чтобы стоять за таким масштабным делом, и предполагают, что Замтарадзе мог просто использовать его имя как прикрытие.
Не исключено и другое: покупателей могло быть несколько.
История поисков Замтарадзе в интернете показывает, что он интересовался аукционным домом Litfund — ведущим игроком на российском рынке редких книг.
Его директор, Сергей Бурмистров, — известный библиофил с обширными связями: он консультировал Министерство культуры РФ и издавал журнал для коллекционеров по поручению Михаила Сеславинского, бывшего главы Федерального агентства по печати.
Основанный в 2014 году, Litfund быстро стал лидером рынка, открыв офисы в Москве, Петербурге и Красноярске.
В июле 2023 года именно на этом аукционе был установлен российский рекорд: «Евгений Онегин» ушёл с молотка за 26 миллионов рублей (около 233 000 фунтов).
По мнению варшавских библиотекарей, всего несколькими месяцами до этого Litfund продал на торгах пушкиновские издания, недавно похищенные у них.
Проверить это трудно: описание подозрительных лотов удалено из интернета.
На сайте Litfund теперь значится, что эти позиции «перемещены, удалены или, возможно, никогда не существовали».
Нет их и в каталоге международного портала Bidspirit.
Однако архивная копия страницы на Wayback Machine показывает, что 22 декабря 2022 года петербургский филиал Litfund действительно продал «одно из самых редких изданий стихотворений Пушкина» за 12 миллионов рублей — и на титульном листе ясно виден штамп Варшавской университетской библиотеки.
Когда журналисты обратились к Бурмистрову с вопросом, продавал ли его аукцион похищенные книги, он ответил:
«Мы не реализуем книги, на страницах которых есть какие-либо штампы или отметки о принадлежности государственным библиотекам; наши эксперты следят за этим очень тщательно. Мы работаем строго в рамках российского законодательства».
Но уже 20 апреля 2023 года Litfund снова продал том стихов Пушкина — на этот раз за 2,6 миллиона рублей.
Скриншот каталога, сделанный варшавскими библиотекарями до его удаления, вновь показывает тот же штамп и характерные дефекты переплёта, по которым можно было безошибочно опознать книгу.
На повторный запрос Бурмистров больше не ответил.
Даже если эти издания действительно прошли через Litfund, прямых доказательств того, что сам аукцион заказывал кражи, пока нет.
Тем не менее, очевидное нежелание российских структур — государственных и частных — сотрудничать с европейским следствием говорит само за себя: никто не спешит возвращать украденное.
Из примерно 170 пропавших книг ни одна подлинная так и не была найдена.
«Я не питаю иллюзий, что мы получим их обратно, — признался польский прокурор Янды. — Для этого потребовалось бы сотрудничество с Россией, а пока мы почти в состоянии войны — это невозможно».
В 2024 году в российском Forbes вышла статья Сергея Бурмистрова, где он возмутился обвинениями, будто кражи Пушкина связаны с Россией или являются «спецоперацией по вывозу русских книг из Европы».
Однако тон его текста был показательно надменным:
он утверждал, что европейцы сами виноваты, потому что «не заботятся о сохранности великого русского культурного наследия» и потому допустили, что «простые преступники смогли заполучить прижизненные издания Пушкина».
Иными словами, если кто и виноват, то — Европа.
Часть 7, эпилог: “Пушкин возвращается домой”
К весне 2025 года “пушкинское дело” превратилось из цепочки дерзких библиотечных краж в символ эпохи.
Поначалу всё выглядело почти анекдотично — пара грузинских мелких жуликов, не способных отличить Гоголя от Гоголадзе, ворует драгоценные книги по всей Европе.
Но за фарсом постепенно проступил другой контур — спор о культурной собственности, разыгравшийся на фоне войны и раскола между Россией и Западом.
Для европейцев эта история стала напоминанием о том, насколько уязвимо их общее наследие.
Тысячи редчайших изданий, веками хранившихся в университетских библиотеках, оказались без охраны — потому что никто и не думал, что кто-то захочет украсть Пушкина.
Для России же — особенно в её нынешней идеологической оболочке — Пушкин всё более превращается в икону национального мифа, в культурное знамя, которое можно поднять и на литературных торгах, и на политическом фронте.
Сама мысль, что похищенные книги могли быть проданы в Москве как “возвращённое достояние”, слишком соблазнительна, чтобы её не обсуждать.
Но доказательств нет.
Есть лишь совпадения, намёки, совпавшие даты торгов и стираемые страницы каталогов.
То, что Россия не помогла вернуть книги, говорит, пожалуй, больше, чем любое официальное признание.
Тем временем библиотеки Европы продолжают проводить ревизии своих фондов.
Варшава, Париж, Рига, Вильнюс, Хельсинки — всюду, где исчезли “прижизненные Пушкины”, остались пустые ячейки с табличками «восстановление каталога в процессе».
Из примерно 170 похищенных томов не найден ни один оригинал.
“Мы вряд ли получим их обратно, — сказал польский прокурор Бартуш Янды. — Это потребовало бы сотрудничества с Россией. А в нынешней обстановке это немыслимо”.
Ирония в том, что кражи, совершённые во имя «возвращения культурного наследия», обернулись ещё большим его рассеянием.
Редкие издания исчезли с полок, но обрели новую, мрачную славу — как символ времени, когда поэты XIX века снова оказались втянуты в войны XXI века.