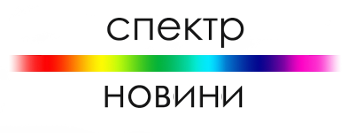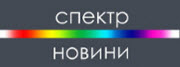Как говорил Киссинджер в контексте ситуации с Южным Вьетнамом: "Быть врагом США опасно, а быть другом - смертельно"
Правда у Киссинджера данная фраза фигурировала не в качестве утверждения, а, скорее, риторического оборота. Мол, "мы, что, хотим стать "смертельным другом" для своих союзников?"
Но со временем эта фраза из риторического оборота трансформировалась в утвердительную "крылатую фразу".
В контексте рисков "быть другом США", после Вьетнама похожая ситуация произошла, например, с Афганистаном.
Кто будет дальше? Курды в Сирии?
Но пока всю тяжесть указанного выше утверждения может испытать на себе Пакистан.
Эта страна долговое время входила в орбиту американской политики, в том числе играла ключевую роль в помощи афганским моджахедам совместно с США во время вторжения СССР в Афганистан.
Достаточно отметить, что Пакистан обладает статусом союзника США вне НАТО.
Не смотря на авторитарный политический режим и перманентную военную диктатуру, Пакистан регулярно получал новейшее вооружение из США.
Наиболее кровавой страницей в истории Пакистана стало подавление восстания в тогдашней Восточной Бенгалии (сейчас республика Бангладеш) - речь о событиях 1971 года.
Политика геноцида со стороны пакистанской армии в отношении бангладешцев началась 26 марта 1971 года со стартом военной операции «Прожектор».
По разным оценкам, в течение девяти месяцев восстания, армией Пакистана было убито от 300 тысяч до 3 миллионов человек, в рамках целенаправленной политики были изнасилованы до 400 тысяч женщин.
Беженцами стали 30 миллионов мирных жителей.
Только вмешательство Индии остановило геноцид. Тогда началась третья индо-пакистанская война, которую Пакистан проиграл.
В самом начале всех этих трагических событий, общественность в США оказывала давление на Белый Дом с целью остановить поставки оружия в Пакистан.
Джордж Харрисон и Рави Шанкар провели в Нью-Йорке ряд благотворительных концертов.
Но президент США Ричард Никсон продолжал активно поддерживать дружеские отношения с пакистанским диктатором Яхья Ханом.
Дошло до того, что американский консул в бангладешской Дакке Арчер Кент Блад направил в Белый Дом телеграмму, в которой высказал протест в отношении ..... политики американского Госдепа.
Эта сообщение вошло в историю под названием "Кровавая телеграмма".
В ней, среди прочего было написано:
"Наше правительство не смогло осудить подавление демократии.
Наше правительство не смогло осудить зверства.
.... Наше правительство стало свидетелем того, что многие посчитают моральным банкротством...
Но мы решили не вмешиваться, даже морально .....
Мы, как профессиональные государственные служащие, выражаем свое несогласие с текущей политикой и горячо надеемся, что наши истинные и долгосрочные интересы здесь могут быть определены, а наша политика перенаправлена, чтобы спасти положение нашей страны как морального лидера свободного мира".
Телеграмма стала для консульства США в Дакке актом дипломатического отчаянья.
Ведь в своей закрытой аналитической записке под названием "Избирательный геноцид" Арчер Блад перед этим писал в Госдеп:
"1. Здесь, в Дакке, мы являемся немыми и ужаснувшимися свидетелями террора пакистанских военных. .....
2. Среди тех, кто подлежит уничтожению, .... есть лидеры студентов и преподаватели университета.
В этой второй категории у нас есть сообщения о том, что Фазлур Рахман, глава философского факультета, и индуист М. Абедин, глава исторического факультета, были убиты.
Ходят слухи, что Раззак с факультета политологии погиб....
3. Более того, при поддержке пакистанских военных, небенгальские мусульмане систематически нападают на кварталы бедняков и убивают бенгальцев и индусов".
Почему США поддерживали тогда Пакистан?
Дело в том, что Пакистан был одним из ключевых участников военного блока CENTO (Организация Центрального Договора) или Багдадский пакта.
Данная военно-политическая группировка была создана на Ближнем и Среднем Востоке по инициативе Британии, США и Турции
США и Британия пытались создать в юго-западной Азии и Индийском океане силовую дугу по сдерживанию советского евразийского проекта.
Данная дуга шла по вектору Турция — Ирак — Иран — Пакистан.
Но данный военный блок не смог помочь Пакистану в индо-пакистанской войне и Исламабад принял решение покинуть его.
Затем из блока выпал Ирак (в результате баасистской революции) и Иран (вследствие исламской революции).
Пакистан входил также в блок СЕАТО (Организация Договора Юго-Восточной Азии) или Манильский пакт.
Это уже блок военно-политический взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Данный блок включал в себя: Австралию, Британию, Новую Зеландию, Пакистан, США, Таиланд, Филиппины, Францию.
Партнёрами СЕАТО были: Южная Корея, Южный Вьетнам, Камбоджа, Королевство Лаос.
Военный блок был направлен на сдерживание распространения коммунизма в Индо-Тихоокеанском регионе, но был распущен по причине краха проектов США в Лаосе, Камбодже и Южном Вьетнаме.
Пакистан также покинул данный блок, так как и данный военный союз не смог помочь ему в войне с Индией.
Тем не менее, пока это отрезвление не пришло, Пакистан был очень активным союзником США.
Например, президент Пакистана Мухаммед Айюб Хан решил начать Вторую индо-пакистанскую войну за Кашмир, во многом опираясь на поставки оружия из США.
Война завершилась можно сказать ничьей, хотя индийской армии удавалось даже доходить до пакистанского Лахора (воспетого в Киме Киплинга и Английском пациенте Ондатже).
Помните в экранизации "пациента" диалог пакистанского солдата британской армии и героя в исполнении Ральфа Файнса:
"Глава первая. Он сидел, назло городским властям, верхом на пушке Замзама. Не могу читать. Слова застревают в горле.
- Вы читаете слишком быстро.
- Вовсе нет. Киплинга надо читать медленно. Глаз нетерпелив. Представьте скорость его пера. Как там? Он сидел... запятая... назло городским властям... запятая... ...верхом на пушке Замзама. На её кирпичной... Как дальше? На кирпичной платформе. Напротив Аджаб Гера. Дворца Чудес,.. ...запятая,.. ...как туземцы называли Лахорский музей.
- Она всё ещё там. Пушка. Возле музея. Её отлили из металлической утвари, собранной у горожан в качестве подати. А потом из этой пушки стреляли в мой народ. Запятая. В туземцев. Точка".
Айюб Хан проводил проамериканскую политику, принял решение о вхождении Пакистана в Багдадский пакт.
Его преемник Яхья Хан, виновник геноцида в Бангладеш и пакистанский диктатор одновременно, продолжал получать новейшее американское оружие, в том числе ракеты и средства ПВО.
Но как видим, сейчас ситуация кардинально изменилась.
Вместо советского евразийского проекта и "призрака коммунизма" появился синоцентричный евразийской проект и китайская идеология «сообщества единой судьбы человечества».
Китай формирует Глобальный евразийский остров и в рамках этого проекта Пакистан стал ключевым региональным партнером Китая, как фактор, сдерживающий индийскую динамику развития.
И в этом конфликте США заведомо заняли сторону Индии, поддержав, например, "водную войну", начатую Дели.
Если раньше Индия воспринималась Америкой как партнер СССР, а Пакистан - как ключевой союзник в Южной Азии, то сейчас роли поменялись.
Пакистан затаил обиду на США по причине того, что Америка не смогла спасти его от территориальных потерь в результате индо-пакистанских войн и постепенно начал делать ставку на Китай.
А Индия все больше начала восприниматься в США как идеальный балансир и сдерживающий фактор по отношению к Китаю.
Именно поэтому и произошла ключевая перезагрузка "геополитических ставок" и "переворачивание региональной шахматной доски".
И теперь фразу Киссинджера можно дополнить следующей формулировкой:
"Быть врагом США - опасно, быть другом США - смертельно, а быть обиженным другом США, начав флиртовать с соперниками Америки - смертельно опасно".
Что касается Индии, то она вовсе не является слепым оружием в руках сильных геополитических игроков, так как сама хочет стать сильным мировым игроком.
Сейчас в Индии можно наблюдать органический политико-экономический синтез.
Это когда политическая идеология сочетается с экономической политикой.
В политике Индия реализует националистический проект "Великой Бхараты" или Махабхараты с традиционными для таких концепций эсхатологическими мотивами в контексте "последней битвы" и "новой эры" - Махабхараты.
В экономике - это "экономический национализм".
То есть в Индии все органично.
Намного хуже, когда в политике - национализм, а в экономике - неолиберализм.
Тогда это неэффективный полит-экономический гибрид, который лишен шансов на успешное развитие. В такой модели кто-то должен уступить: или политика стать неолиберальной или экономика перейти в формат "экономического национализма".
Но в Индии такой проблемы нет.
Как ни странно это прозвучит, в XX в., сразу после обретения независимости, индийские элиты тормозили экономический рост Индии.
Причина этого заключается в том, что Индия долгое время решала свои, очень специфические, задачи развития.
Учитывая постколониальную лоскутность, высокая динамика развития отдельных регионов на базе концепции СЭЗ как в Китае, могла погубить ее как целостную страну и породить сепаратизм.
Нужен был плавный переход к новой институциональной зрелости.
Кроме того, индийское правительство делало ставку на инклюзивный рост, подтягивая уровень развития малого и среднего бизнеса под параметры роста больших корпораций, искусственно ограничивая динамику развития последних, в том числе с помощью ограничения иностранных инвестиций и поглощения их внешними игроками.
Все эти годы, Индия сумела избежать крайностей неолиберализма, если оценивать его в самых радикальных проявлениях.
Базовой идеологической установкой этой страны можно назвать этатизм, когда государство вмешивается в жизнь общества и выступает осью стабилизации экономической и социальной систем.
По сути, это антипод минархизма, или "государства в смартфоне".
Сам неолиберальный дискурс в Индии никогда не был в смысловом мейнстриме.
Здесь попеременно доминировала своеобразная идеологическая триада.
На начальном этапе это было течение свадеши ("своя страна") Ганди, которое подразумевало создание национальной экономической автаркии, максимально изолированной от торговых связей с Британской империей.
Символом этой философии была прялка как образ внутреннего производства.
В дальнейшем английский экономист Эрнст Шумахер назвал эту концепцию буддийской экономикой.
На смену свадеши в дальнейшем пришел фабианский социализм Неру, причем сама идея фабианства как теории скрытой трансформации капитализма в новую форму социализма, как известно, возникла в Британии, где она является аналитической частью лейбористского политического крыла и части неоконсерватизма (красный торизм).
Данная концепция отлично сочеталась с идеей медленных трансформаций индийской экономики.
Еще одним течением является хиндутва, что можно описать как экономический национализм и промышленную доместикацию: хочешь продавать товар на нашем рынке – локализируй производство в Индии и производи его здесь.
А идеологема хиндутвы – это признание геноцида индусов со стороны мусульман, соответственно, отсюда и происходят идеи о "вторичности" мусульманской общности страны, которая в радикальных ответвлениях этого учения не рассматривается как обладающая правами коренных жителей.
Как сказал один исследователь, "хиндутва секуляризирует индуизм как религию посредством сакрализации нации".
Описанный политический изоляционизм, тем не менее, является лайтовой формой того, что могло произойти в Индии, ведь, по словам Индиры Ганди, индийская демократия изначально была западной либеральной иллюзией, но не социально-экономической реальностью. А индийские представительские учреждения изначально были не более чем форумом для эксплуататорских элитных групп.
Сегодня же Индия – это самая большая страна в мире, которая функционирует на демократических принципах управления.
В этом плане Индия, учитывая свою "лоскутность" и демократический характер управления, очень осторожно прибегает к стимуляторам роста.
Тем не менее многие экономисты уже сейчас заявляют, что именно эта страна в ближайшие десять лет заменит Китай в качестве драйвера экономического развития мировой экономики.
Если не полностью, то частично.
Премьер страны Нарендра Моди сформулировал новую "тримурти" роста и развития экономики:
1) модель снижения налогов;
2) стимулирование экспорта с помощью рецепции китайского опыта;
3) реализация крупных инфраструктурных и мегарегиональных проектов.
В помощь Индии должна придти и триада доверия, когда бизнес доверяет государству, предприниматели – друг другу, а население – бизнесу.
Все это в значительной мере является аналогом китайской модели: монетарное стимулирование, снижение налогов, региональные инфраструктурные проекты.
Единственная проблема – это своеобразный когнитивный и смысловой шок.
Страна едва решила распрощаться с "ведическим социализмом", как вновь вернулась к экономическому "тримурти" в виде стимулов со стороны государства.