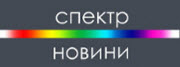Когда начиналась перестройка, многие читатели и хранители самиздата, знавшие наизусть стихи запрещенных или полузапрещенных тогда Мандельштама или Ходасевича, делились странным и неприятным чувством. Им казалось, что теперь, когда всем можно было читать все, у них словно украли их тайное духовное имущество. Другие, наоборот, только радовались, что теперь к этим общим духовным богатствам могут приобщиться и все остальные. Третьи и вовсе не понимали, о чем тут вообще может идти речь, ведь духовного имущества попросту не существует.
А если оно и существует, то только в том смысле, что может или даже должно быть доступно в том виде, в каком было когда-то создано. А дальше наступит цепная реакция. Вот почему многим людям в конце 1980-х людей в бывшем Советском Союзе казалось: «Раз опубликовали Николая Гумилева, значит в скором времени поменяется вся система».Гумилева и в самом деле опубликовали на заре перестройки в журнале «Огонек». Но с поэтами вообще вышла незадача. Сколько ни натыкай памятников и мемориальных досок по городам, где правят наследники чекистов, новую жизнь не построишь. Еще и потому, что посмертным восхвалением и опошлением творчества всеобщих кумиров занимаются люди той же породы, что в 1980 замалчивали и как раз не выпускали пар народной симпатии наружу. Это заметно и в мелочах.
Например, постоянно висящая в эфире разных российских теле- и радиостанций одна из самых знаменитых песен Высоцкого «Я не люблю…» прокручивается в автоцензурном варианте. Они крутят
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.
А правильный вариант-то известен:
Я не люблю любое время года,
В которое болею или пью.
Вообще самоцензура — жестокая вещь. И тот, кто знает настоящую строчку —
Я не люблю насилья и бессилья,
И мне не жаль распятого Христа,
впоследствии превращенную, под давлением авторитета Александра Меня, в
Я не люблю насилья и бессилья,
Вот только жаль распятого Христа,
должен с удовлетворением признать, что поэт все-таки откликнулся на увещевания пастыря пародийно-иронически. «Жаль» ему.
Но мерзость, стекающая с колонок под знаком всенародного отмечания 80-летия великого барда, уйдет по миновании юбилейного года, а цензурный дух остается висеть в воздухе.
Коллега жалуется, что в университет начинают поступать люди, которые не знают, что такое «коллективизация», не знают, когда была в СССР «индустриализация», не разбираются в «левом» и «правом» уклонах, с которыми боролась тогдашняя правящая партия. При ближайшем рассмотрении оказывается, что в учебниках истории России по-прежнему в ходу язык, доставшийся в наследство от совка. И даже не от позднего его предперестроечного извода, а от самых глубин, от написанного под редакцией Сталина краткого курса «Истории ВКП(б)». После так и не состоявшегося «преодоления культа личности Сталина и его последствий» (1956–1964) учебная литература не менялась еще несколько десятилетий. Из книги в книгу переходили все те же скрепы, вся тот же язык «триумфального шествия советской власти», «освоения целинных и залежных земель», «индустриализации», «исправления перегибов» и прочая, и прочая, и прочая.
На всякий акт государственной истребительно-карательной политики всегда было наготове мягкое цензурное словечко, в дальнейшем перешедшее даже в обиходный язык. Началось это давным-давно. Можно сказать, с истории рабства, отмененного в 1861 году под странным цензурным названием «крепостного права». Какое к черту «крепостное право», что еще за «право» такое, граждане?
Или вот «колхоз». Или «раскулачивание». Можно написать и опубликовать сколько угодно исследований, но до тех пор, пока не будет переименовано, т. е. названо своими именами то, что происходило в те годы, пока оно не войдет в школьные учебники, люди будут расти с опилками в голове.
Когда сегодня прислушиваешься к словечкам, вылетающим из уст депутатов Госдумы, — вроде свежего предложения артистки Драпеко перевести культурную жизнь в России на рельсы военного времени, — слышишь шуршание этих при других обстоятельствах совершенно безвредных опилок.
Может быть, студент, не знающий, что такое «коллективизация» или «колхоз», инстинктивно защищается от ложного знания, которым его пытались напичкать в школе? Как, черт побери, учиться по этим учебникам, если колхоз на самом деле не коллективное и не хозяйство, что истребление кулачества как класса было, конечно, истреблением, но не как класса, а просто людей, а коллективизация — это создание не коллектива, а черт знает чего под видом коллектива, что какая-нибудь «Поднятая целина» — мерзейшая агитка, пример хорошо организованного глумления над судьбами миллионов людей?
Я не люблю любое время года,
В которое болею или пью, —
так пел Владимир Высоцкий по-настоящему, не для подцензурной пластинки фирмы «Мелодия». А певцом «веселых песен» делали Владимира Семеновича Высоцкого подцензурные условия — те самые, от которых он как раз «болел или пил». Наследники убийц в роли организаторов юбилея. Это — по-нашему.
После ссылки А. Д. Сахарова в Горький поэтесса и литературный критик Виолетта Иверни, эмигрировавшая в Париж, организовала вместе с группой единомышленников «Свободный университет имени Сахарова». Об его истории когда-нибудь напишут интересную книгу. А пока — маленький эпизод. Начало нулевых годов. Самое начало чекистской реконкисты в России. В Сахаровский университет, на самом деле — довольно скромную летнюю школу для западных любителей русского языка и литературы — приезжает из Москвы товарищ. Записывается в театральный кружок. Ведет странные разговоры со студентами и преподавателями. Из разговоров этих выясняется, что его сюда направили «разобраться, понюхать воздух». С этой целью командировочный даже выучил стихотворение Иосифа Бродского «Пилигримы», чтобы поучаствовать в концерте. Ему велели выдать себя за своего, притупить бдительность вшивой интеллигенции, которая под видом приобщения иностранцев к русской культуре, небось, выдает им самые секретные секреты нашего духа. И вот он выучил стихотворение. На концерте он выдавливает из себя строку за строкой, несколько оживляясь, когда дело доходит до строк
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
…И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
Ко мне мужичок отнесся тепло, но не сразу. Помню, рассказывал я маленькой группе норвежских курсантов о тонкостях применения матерного языка у Достоевского и в этой нашей новой России. Сперва я, видно, показался нашему чекисту кем-то вроде Эсхила, разглашавшего непосвященным Элевсинские таинства. Но в ходе семинара он оживился, а уж потом и вовсе почти расчехлился — признался мне за кружкой пива, что терпеть не может Бродского, а стихотворение искал «такое, чтобы было похоже на Асадова или на Евтушенко».
Как стоящие часы дважды в день показывают абсолютно точное время, так и крапивное семя выдает правду о себе. Пилигримы коллективизации и освоения целинных и залежных земель чуют, что
значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
Но все-таки пытаются играть на пианино. Не, не «Мурку», но и не Шопена, а, скажем, «любимое из битлов». В порядке внедрения. Грызут живое дерево, а выходят — опилки.
Засланец чуждого мира почему-то раньше времени уехал на родину, в Москву. Иногда я ищу его взглядом в московской толпе. Но он так похож на всех и каждого, что я вряд ли признал бы его, даже если б и встретил.
Жалко этих людей — с ворованным Высоцким, с ворованным Бродским, с историей, которой они не понимают, потому что обращаются со словами, как крыловская мартышка с очками.
Гасан Гусейнов